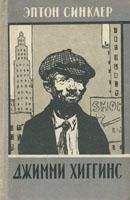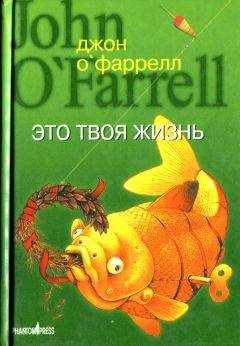Владимир Матлин - Красная камелия в снегу
Речь у него была вполне культурная, городская. Наверное, учился в Ленинграде или Москве.
Мы сели на лавку, в стороне от стола. Он вздохнул и заговорил:
— Прежде всего, прошу прошения, что не могу остаться на похороны. Занят беспросветно. Еле выбрался сюда, ваша матушка очень просила.
— Она причащалась? — У меня под сердцем что-то сжалось и напряглось.
— Да… но разговор сейчас не о ней, а о ее подруге, Прасковье Афанасьевне.
— О ком? Никогда не слышал.
— Ну старушка такая жила у вас тут, повитуха на три деревни. Лет десять назад преставилась.
— Бормычиха, вы имеете в виду.
— Да. Прасковья Афанасьевна. — Он явно не хотел употреблять прозвище вместо христианского имени. — Так вот, она перед смертью имела со мной разговор. То есть причащалась тоже, но это другое дело, это не часть ее исповеди, если понимаете, о чем я говорю. Это отдельная ее просьба к вам. Она просит у вас прощения, что однажды вас обманула, неправду сказала. Но она клятву дала на иконе Николая Угодника — никому никогда не рассказывать правду про это. Так перед смертью у нее большие сомнения появились: а правильно ли она делает, что обманывает вас. Пришла с этим ко мне в церковь. Мы долго с ней судили и решили… Я сказал ей, что обманывать, тем более в таком деле, — плохо. «А клятва на иконе?» — спрашивает. Что ж клятва… Давать клятву на плохое дело — тоже грех. Так мы с ней рассудили. И она попросила меня рассказать вам тайну.
Я уже давно понял, о чем идет речь, но мне хотелось знать, как это случилось.
— История же такова. Осенью сорок первого года (война только недавно началась) Прасковья Афанасьевна — благословенна память ее — принимала роды у Варвары Ершовой, вашей матушки. И родилась мертвая девочка.
— Девочка?
— Да, мертвая девочка, избави нас и помилуй. — Он перекрестился. — А на другой день после родов слух прошел, что на переезде разбомбили поезд с эвакуированными из Ленинграда, ну и вся деревня кинулась туда. Кто за чем, да… Кроме вашей матушки, конечно: она лежала больная, в горе, рядом с мертвым ребенком. А Прасковья пошла. Картина страшная: трупы, части человеческого тела… Ужас! И слышит под насыпью… плач не плач, писк не писк… Спустилась вниз, взглянула: а там женщина лежит с разбитой головой и в мертвых руках сжимает младенца, мальчика не старше месяца. Чуть живой, уже и плакать не может. Прасковья тут же схватила какую-то тряпку, завернула младенца — и бегом в деревню к Варваре. Та, как увидела, говорит: «Это мне Бог послал в утешение за мое горе». У нее еще молоко не перегорело. Она взяла с Прасковьи клятву на иконе, а девочку закопали ночью в лесу без всякого обряда — она ведь не была крещена. Такова история вашего происхождения.
Он помолчал, повздыхал и стал собираться в дорогу.
Я спросил:
— Батюшка, неужели мать перед смертью не рассказала вам об этом?
Он напрягся, лицо его стало непроницаемым:
— Не могу, Алексей Иванович, — тайна исповеди…
Наутро состоялись похороны. Пока я был на похоронах, Таня и Олег съездили в магазин, привезли водки (много) и кое-какой закуски. Ну и я нашел у мамы в погребе разные припасы. В общем, поминки прошли по всем правилам деревенского этикета — кстати, весьма сложного. Поминали Варвару добрым словом, некоторые даже помнили Ивана, ее мужа, которого я всегда считал своим отцом. Я все приглядывался к своим односельчанам и задавался вопросом: знают или нет? Ведь слухи ходили давно, я еще мальчиком был. Относились они ко мне за столом почтительно, но совсем не так, как к своим. Впрочем, я уже давно не был для них своим: ведь большую часть жизни прожил в городе.
Уходили поздно, все пьяные — и мужчины и женщины. Церемонно благодарили за угощение. А Петр Зипунов обнял и трижды поцеловал — не поминай, мол, старого…
На следующее утро мы втроем отбыли домой.
Олег вел машину, Таня сидела рядом с ним, а я сидел на заднем сиденье, размышлял и мучился. Кто же все-таки я такой? Мало ли кто мог ехать в эвакуацию из Ленинграда… Мои биологические родители могли быть простыми рабочими, могли — инженерами. Они могли не быть русскими: недаром меня несколько раз евреи принимали за своего, а в отделе кадров не хотели верить, что я родом из вологодской деревни. Ну что ж, думал я, еврей так еврей, я ничего не имею против них. Даже наоборот — всю жизнь буду благодарен Лазарю Борисовичу Лунцу за все, что он сделал для меня. Когда он умер, я плакал, как по родному отцу. Или Женя Озерский… Да что тут говорить… Мне всегда были противны тупоголовые идиоты, поносящие евреев. Пусть и не тупоголовые, пусть академики — все равно, ненависть к евреям застит ум, превращает их в дураков. До сих пор, пока я был русским, антисемитизм просто шокировал меня умственным убожеством, а если я еврей? Это уже выпады прямо против меня…
Часть дороги я молча думал. В Бабаево, помню, ребята остановились перекусить. И тут меня прорвало…
Мы сидели в какой-то придорожной чайной за столом, покрытым синей клеенкой, и я вдруг почувствовал сильнейшее желание рассказать эту историю, которую всю жизнь носил в себе, прятал от людей. Кому же рассказать, как не жене и ближайшему другу? И я рассказал — все-все: и про школу, и про драку с Петькой Зипуновым, и про Лизавету Родионовну и Бормычиху, про разговор с мамой и вчерашний рассказ священника… И описал свои мучительные сомнения.
Таня, потрясенная, молчала. Но Олег вел себя так, будто в моей истории не было ничего поразительного. Его рассуждения были сугубо рациональными, даже деловыми:
— История интересная, — сказал он, немного подумав, — но в практическом отношении особого значения не имеет. Официально кем ты был, тем и остаешься. Никто не станет менять твои документы на основании рассказа повитухи, которая умерла десять лет назад. Так что ты — Алексей Ершов, сын Ивана Ершова из деревни Большой Овраг. Естественно, русский — ведь оба твои родителя русские.
Теперь скажу тебе то, что давно заметил: да, ты удивительно похож на еврея, говорю как антрополог: скошенный лоб, большой, с изломом, нос, пухлые губы, темные глаза и волнистые волосы. Почти карикатура из «Штюрмера», а уж они-то знали в этом толк… Очень может быть, что та убитая женщина под насыпью была еврейкой. Ну и что? Кто-то будет тебя принимать за еврея — тебя это колышет? Да что далеко за примером ходить? — Он бросил короткий взгляд на сестру. — Когда Танька надумала за тебя замуж идти, наш папаша-генерал закричал: «А ты понимаешь, что он еврей?!» Я говорю: «Папа, я у него в родной избе был, маму его видел…» А он: «Знаем-знаем, они кого хочешь проведут!»
Они оба засмеялись — брат и сестра. Нет, они не в силах понять, что человек не может не быть тем или другим, это разрушает его идентификацию. Существуют, конечно, полукровки, но это тоже особая идентификация. Если уж на то пошло, я совсем не возражаю быть евреем, ведь тогда у меня есть принадлежность, есть внутренняя позиция. Я могу сказать: «Мы, евреи, то-то и то-то…» А сейчас я никто: неизвестно, кто отец, кто мать, русский я или еврей… Это совсем другое, и это больно… Нет, вопрос о моем происхождении далеко не закрыт, для меня он полон значения.
Прошло еще несколько лет. Таня защитила искусствоведческую диссертацию о портретах Боровиковского, после чего, выполняя обещание, данное моей маме, родила подряд сына и дочку. Только мама их не дождалась… Сейчас они уже взрослые, поступают в институт. Я очень надеялся, что у Лазаря проявится интерес к математике, — напрасно, кроме хоккея ему ничто не интересно. Правда, в хоккей он играет хорошо. А вот Варенька как раз обнаруживает склонность к точным наукам.
Моя научная карьера развивается неплохо, грех жаловаться. Еще при советской власти меня избрали чле-ном-корреспондентом. Мои работы известны за границей, меня приглашают в разные страны… ну и так далее… Несколько лет назад читал курс лекций в Израиле, повидал там Якова Моисеевича и Мирру Абрамовну. Они уехали из России одними из первых, как только началась еврейская эмиграция, — в 1973 году, если память мне не изменяет. Я их провожал в аэропорту. Когда мы встретились в Израиле, они были уже очень в возрасте, я навещал их в доме для престарелых. Почти все время они говорили о Жене, о его трагической смерти, которая (вспомним) случилась уже тридцать лет назад. Но для них это — событие, которое произошло только что, и сердечная рана совсем свежая… С этой раной они и умерли — подряд, в течение одного месяца.
А теперь возвратимся к теме рассказа — моему происхождению. Нет, никаких новых фактов я не обнаружил, да и откуда им взяться? Кто хоть что-то знал, все умерли. Но вот однажды у нас дома (мы уже жили в трехкомнатной квартире на Мойке) появляется Олег и заводит такой разговор. «Вы, — говорит он нам с Таней, — что-нибудь слышали о ДНК-генеалогии? Это наука, которая дает ответы на вопросы о происхождении и истории этнических групп, она может рассказать о предках любого человека — кем они были с точки зрения родовой. Короче говоря, сегодня можно обоснованно, с точки зрения науки, рассказать, какого рода-племени данный индивид».