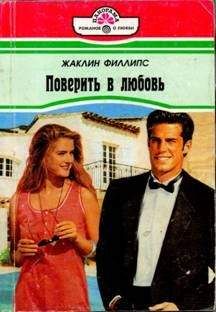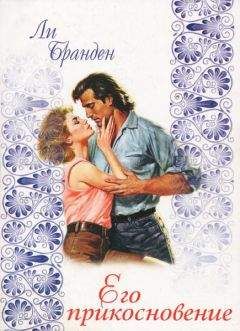Зорин - Исповедь на тему времени
Зима в Трире выдалась промозглой — за окном падал снег, и в университетской библиотеке Маркс был один. «Откуда известно, как дьявол искушал в пустыне Христа? — листал он Писание. — От Христа? Но в этом есть что-то человеческое, недостойное Бога…»
Прогремел гром, начиналась зимняя гроза.
«Иисус говорил, что послан Отцом, — выводил на полях Маркс, — поначалу его пророчества противоречивы, точно он поперхнулся истиной. Лишь чудеса заставили его поверить, что он — Бог, и взойти на крест, будто на небо. Однако муки пересилили: «Боже мой, для чего Ты оставил Меня?» Человек остался человеком, Бог покинул земное обличье…»
Маркс продолжил чтение, потом, покачав головой, снова погрузился в записи.
«Царство Небесное — за гробом, значит, его отсрочка неопределённа, значит, вера — это обещание. Но чем оно обеспечено? Писанием четырёх полуграмотных евреев?»
Сосредоточившись на своих мыслях, Маркс не обращал внимания на громовые раскаты.
«Иерархия — вот камень преткновения, вот что мешает земному счастью! — всё больше воодушевлялся он. — Но на небе свои классы: серафимы и херувимы возвышаются над святыми и мучениками…» Маркс посадил чернильное пятно, промокнув бумагой, снова взялся за перо. Но тут его отвлекли крики на улице. Он поднял голову: шёл тридцать третий год, солнце клонило пятницу к субботе, и в Иудее стояла необычная для апреля жара. Перед глазами у Маркса всё поплыло, теперь он видел мир перевёрнутым: босые ноги, пыльные сандалии, родинки, прикрытые подбородком, и летящую с криком гусиную стаю, которая извивалась в небе, как кнут. Маркс превратился в деревянный крест, который, покачивая, несли на Лобное место. Примерившись, его врыли в сухую землю, скрипевшую, как песок, потом прибили дощечку с надписями на арамейском, греческом и латыни. Она обожгла, как терновник, Маркс вздрогнул, будто в него вонзились тысячи колючек. А когда через окровавленные кисти в него стали вколачивать гвозди, он застонал — беззвучно, как Вселенная.
Пилат вспоминает дело Назаретянина— Зачем ты убил Меня? — услышал я грозный голос. — Я нёс Слово, а ты распял Меня!
Крылатый ангел со строгими глазами подтолкнул меня к престолу из облаков, рядом с песочными часами. Так я понял, что умер и держу ответ перед Всевышним. На земле я приговаривал к смерти тысячи преступников, — от Германии до Иудеи — разве всех упомнишь?
— Ты говоришь, — произнёс я, чтобы не молчать.
На меня зашикали.
— Видишь, тебя обличают!
— Не судите, да не будете судимы… — ввернул я первое, что крутилось на языке.
И уткнулся под ноги. Стало слышно, как в часах сыплется песок.
— Почему ты молчишь, разве не знаешь — от Меня зависит твоя судьба?
— Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано Тебе свыше, значит, более греха на Том, кто всё устроил. А если это Ты, то причём здесь я?
Мне влепили пощёчину.
— Оставь, Михаил, пусть оправдывается, как хочет!
Я усмехнулся:
— Ты ждёшь оправданий? Говоришь, весь мир свидетельствует против меня? Но это Твой мир! А римский закон был не от мира сего, — обвёл я вокруг руками. И взглянул на черневшую внизу бездну: — А на земле всегда осуждали его нарушителей — в Иудее так поступали прокураторы и до меня, и после! Их ставили свидетельствовать о заключённой в законе истине…
— Что есть истина? — перебил Господь со странной смесью презрения и жалости. И, вздохнув, обратился к ангелам: — Я не нахожу на нём вины…
— Но он нарушил Твои законы, — прогремел ключами бородатый старик с лицом, искажённым злобой. — Я не могу принять его!
— О, Пётр, тысячи других распинали людей, а он распял Бога — Я прощаю его, простите и вы…
Вокруг возмущённо закричали:
— Он посягал на Твою власть! Он оскорбил Твоё величие!
— И что? Чем Христос на суде у Пилата отличается от Пилата на суде у Христа? Я повторяю: возлюбите врагов своих!
— Своих — да, Твоих — нет! Он — невиданный злодей, скинь, скинь его в геенну огненную, пусть его пепел падёт на нас!
— Будь по-вашему, — нахмурился Господь. — Однако закон на небе непреложен, как на земле: сегодня Пасха, а у нас ещё подсудимый Варавва — кого отпустить?
— Варавву, Варавву!
Я ужаснулся.
— Они верят искренне и глубоко, — умыл руки Господь, — только сами не знают, во что…
Ангелы мгновенно расступились, а меня с хохотом окружили бесы. Чёрные от копоти, они щёлкали хвостами, как бичом: «Ну что, сын императорский, спасут тебя твои легионы от нашего?» На меня уже накинули багряницу, приладили терновый венок.
И тут в часах упала последняя песчинка.
— Радуйся, Пилат, — улыбнулся Господь, — от Сотворения прошло столько времени, сколько отпущено, так что прощаются все — и живые, и мёртвые!
Вокруг начались танцы, ангелы целовались с демонами, змеи стали как голуби, а небо громовыми раскатами наполнил смех. Все двери распахнулись, и Пётр выбросил бесполезные ключи.
— Дело прошлое, — похлопал он меня по плечу, — но скажи, Пилат, ты бы снова распял праведника, который стучал в железные ставни и кричал: «Проснись!»?
— Проснись… — тряс меня за плечо коренастый центурион, пурпурный плащ которого слепил, как багряница. Был шестой час, но жара в Иудее ещё не спала.
— Что тебе?
— Прокуратор, — поднял ладонь гвардеец, — царь Ирод прислал на суд какого-то галилеянина…
СКВОЗЬ ВРЕМЯ И ФАКТЫ: КАРА-ЧУРИН, ТЮРК
Боке, Джембуху, Тарду, Биягу и Богю-хан — длинный список армянских, персидских, китайских и греческих имён, едва заметный след в фольклоре и несколько летописных упоминаний, — всё, что, кочуя по столетиям, дошло до нас от восьмого кагана династии, основателем которой был благородный волк.
ВосхождениеОн родился в юрте, посреди голой степи, в середине скудного на сантименты века. Высохшие сирийские отшельники спорили тогда о Сыне с константинопольскими монахами, а персидские всадники, уже не верящие ни в Ормузда, ни в Аримана, держали трон на длинных копьях. Из Индии ещё не вышел тогда бритоголовый проповедник, а в аравийских песках ангел не открыл хранящуюся под небесным престолом Книгу.
Он родился, когда его народ плавил железо для жужаней. Они промышляли разбоем и не щадили ни согнутых старостью, ни ползающих на коленях. Он ещё был младенцем, когда восстание освободило его народ, взметнув к Истории.
Был он сыном Истеми-бахадура, орда которого насчитывала сто тысяч халатов. Его вскормили кобыльим молоком, звон тетивы был его колыбельной, а шкуры барсов украшали его шатёр вместо шёлка. Он не умел превращать слова в мёртвые буквы, пословица его народа гласила, что мужчину воспитывает война. И он встретил её, когда надменные эфталиты, прячущиеся под чешуйчатыми кольчугами, вырезали тюркских послов.
Мстить за обиду отправили Истеми.
По слухам, докатившимся вместе с паникой до владык Бухары, он сказал перед битвой: «У вас каждый воин — мужчина, у нас каждый мужчина — воин». И рассыпал эф-талитов в прах.
А рядом с его стрелами ложились стрелы Кара-Чурина.
Вдохновлённые победой, неразлучные, как быки в упряжке, отец и сын двинулись на запад, где вечерами алеет солнце, по ржи гуляет ветер и воды — как неба. Перед знамёнами с оскаленной волчьей пастью склонились непобедимые сарматы, копытами разгорячённых скакунов раздавлены хуни, у которых безбрачие почиталось за позор, а брак с одной женщиной вызывал смех. Им покорились дулу, нушиби, алане, кыргызы, кыпчаки, хиониты и холиаты. К истоптанным лугам Волги они вышли, гоня вар и огоров, которые, улетая быстрыми птицами, навели позже ужас в Паннонии, став известными как свирепый народ авар. Попирая чахлый кустарник, тюрки приблизились к бескрайней, как степь, воде, в которой боги, издеваясь, размешали соль. Завораживая музыкой восточных названий, Фирдоуси сообщает, что каганат раскинулся «от Чина до Джейхуна и до Гульзариуна, по ту сторону Чача». Но тюрки не остановились. Прячась от солнца под лисьими шапками, они нарушили молчание пустыни, в которой от жары зеленели ящерицы и шипели змеи. Они упрямо продвигались вперёд, оставляя следы в песках, наречиях, песнях, очертаниях скул, эпосе, форме клинков и названиях мест.
Доброта у них означала слабость. В их языке — сянь-бийском диалекте древнемонгольского — «жестокий» и «могучий» не разделялись. Выражающее их «ышбара» звучало похвалой, которая вызывала зависть. Они не блуждали в поддельном синтаксисе, не придумали слов-зеркал, из которых строит лабиринты ложь. Зная, что первыми гибнут трусы, были неустрашимы, а единственно известная им пища, вяленая конина и козий сыр, делала их неподкупными. У походных костров они мечтали вернуться к раскосым, плосколицым женщинам. Считая овец, они бы счастливо цокали языком, пили кумыс и смотрели, как выделывают войлок. Их ловкие жёны обходились без рабов, и они истребляли пленных[28].