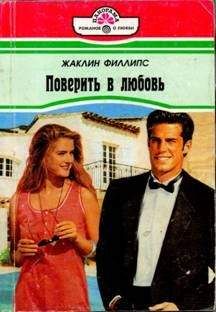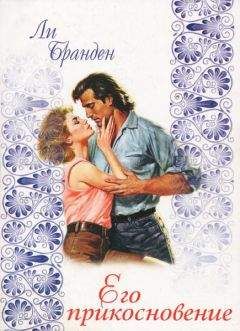Зорин - Исповедь на тему времени
У островитян есть такой обычай, сохранившийся, как мне говорили, с незапамятных времён. В углу их жилищ стоит грифельная доска, на которой они пишут по утрам первую фразу, произнесённую королём после сна. Целый день они вглядываются потом в осыпающийся мел, глубокомысленно морщатся, пытаясь втиснуться между букв и, ухватив, как кошку, вытащить оттуда потаённый смысл высочайших слов, прежде чем их унесёт тряпка. И это благдвильбрижцам всегда удаётся, каждому — на свой лад. На свою tabula rasa они молятся, как на икону, и, в отличие от проповедуемой у нас Божественной неизменности, она символизирует переменчивость. Их религия (брунзилё) провозглашает терпимость, которая с годами превратилась в безразличие. Они поклоняются любой случайно попавшейся им вещи, будь то метла, огородное пугало, осколок стекла, сон с четверга на пятницу, собственный пупок или причитания ветра. Специальная коллегия следит, чтобы их внимание не задерживалось, а идолы сверкали, как мыльные пузыри. Для этого иногда распускают слухи о внезапной гибели короля или о поразившей его немоте. Подобные мифы повергают население в ужас: при всей своей изощрённости, благдвильбрижцы поразительно наивны. Постоянные темы их разговоров — равенство и свободомыслие, которыми здесь очень гордятся. Любой дубильщик кож, не смущаясь, расскажет, как он понимает устройство Вселенной и последнюю фразу короля. «Считаешь ли ты себя равным ему?» — спросил я одного могильщика. Вместо ответа он рассказал мне о видах на урожай и, заколачивая гроб, поведал о достоинствах покойного.
У лжи богатый арсенал, у правды — бедный, ложь взывает ко множеству чувств, правда — только к справедливости. Поэтому благдвильбрижцы считают ложь оружием сильных, а правду — ненадёжной крышей для слабых. Не все, однако, способны жить во лжи. Таких здесь считают душевнобольными и зовут аристократами (чудгилгами). Аристократы проводят жизнь в одиночестве. По распространённому суеверию их взгляд вызывает порчу, а прикосновение лишает удачи. Аристократом может объявить себя каждый. Но это опасно. От них шарахаются, как от прокажённых, и в любой деревне могут побить камнями.
Через год меня увёз голландский корабль. Когда капитан сообщил, что направляется в Европу, я поначалу обрадовался, но потом стал искать в его словах каверзу, подозревая под Европой синевшие впереди волны, край света или преисподнюю. А вернувшись домой, я не мог избавиться от ощущения, что так и не покинул Благдвильбригг. Уже в порту меня встретили толпы с газетами в руках, стадо бормочущих, блеющих, жующих слова, которых недостойны. Меня окружили сплетни, журналистские «утки», переменчивая молва, захлестнули обманчивые проповеди и сомнительные истины, я повсюду натыкался на писателей, которые, как свиньи жёлуди, рыщут скрытый смысл, и читателей, которым надевают на нос очки.
Ночью, когда подступает бессонница, я вижу, как островитяне склоняются над кроватью и слизывают мои мысли длинными, скользкими языками.
МИРАЖИ БЕССМЕРТИЯ, ИЛИ ДОН ИМАГО, КОТОРЫЙ ОБРЁЛ ВЕЧНОСТЬ МУМИИ
Скоротечность нашей жизни — тема, которой трудно удивить. Но и в ней может быть неожиданный ракурс.
Предположим, что гениальный учёный занимается клонированием, надеясь воспроизвести себя. «Memento mori» — слова из мёртвого языка — вызывают у него образ бесконечной стены, которая, надвигаясь, толкает в пропасть. И жало этого страха подгоняет его в работе. Родившийся горбуном, он посвятил жизнь её бесконечному продлению, заключив завет с богом-машиной, ждёт “Deus ex machina”. И вот наступил его последний вечер. Он ещё раз проверил спасительный аппарат, прежде чем стена надвинулась могильной плитой. И уже к рассвету, когда затёртая монета луны переломилась в узкий, блекнувший серп, машина выдала кальку его «я». В ней отразились седые волосы, едва заметный шрам на щеке, капельки пота, ресницы, севшая на плечо муха, выпиравший горб. И в ней проступил другой его горб — обречённость прожить один день. Подобно святому Лазарю, ему суждено было теперь воскресать, чтобы умирать.
Таков сюжет фантастического рассказа о людях, тиражируемых, как газеты, и, как газеты, увядающих за день. Их образ воскрешает в памяти гомеровские «листья, которые ветер бросает на землю», и метафору Симонида — «существо-однодневка». Едва разорвав кокон, они вспоминают, что мотылькам, бьющимся о стекло, им не вырваться из-за решётки «сегодня».
Подчёркивая аналогию с превращением личинки в бабочку-имаго, назовём горбуна доном Имаго.
Можно долго описывать его трагедию, но рассказ не сводится к репортажу из камеры смертников. Ибо душе дона Имаго, застрявшей между жизнью и смертью, местом заключения служат всё новые доны Имаго. Их внутреннее время застыло, внешнее — сжалось до суток, это и есть их бессмертие, их остановившееся мгновение. Такое решение подходит для мифа о доне Имаго, созерцающем вечность.
Но сюжету легко придать детективный оттенок. Пусть теперь наш герой — торговец, наблюдавший, как из дома напротив его лавки по утрам выходил странный горбун. Небрежным кивком он отвечал на приветствие. Иногда задерживался, покупая газету. Торговца в нём что-то смущало, и однажды он осознал, что никогда не видел его возвращения. Недоумение вызвала и монета с характерной царапиной, которой каждый раз расплачивался горбун. Проводя ночи у его дома, торговец тщетно караулил его возвращение.
И однажды проник за ворота.
В одной из комнат он нашёл огромный стол, заваленный бумагами. На стенах цвета запекшейся крови висели зеркала, отражавшие горевшую свечу. Смятые, скомканные, разорванные в клочья листы хранили разные даты. Из них герой узнал об эксперименте, о том, как доны Имаго проводили отпущенные часы. И как их запечатлевали. Они поступали так в смутной надежде, что завещание продлевает жизнь. Они думали выделиться среди одинаково безликих, среди подобных себе, среди своих копий. Чтобы отразить мир этих существ, пришлось бы расширить круг местоимений, введя «яы» — симбиоз «я» и «мы».
«Когда я очнулся от тяжкого забытья, вокруг царил сумрак, остовы предметов проступали в нём какими-то жуткими насекомыми, так что я едва осознавал себя вернувшимся к действительности, — с трогательным пафосом сообщала одна из записок. — Но тут не отпускавшие меня в последнее время мысли нахлынули с новой силой. Я вспомнил суматоху вчерашних приготовлений, грядущее спасение, вспомнил, что настал решающий день. Всё или ничего! Волнуясь, я вылез из машины, в которой, видимо, уснул, сломленный усталостью. Откуда взялась эта куча листов? И свеча на столе? При её тусклом свете я развернул несколько бумажек, исписанных моей рукой, но мне незнакомых. Я бросился к окну. Осенний дождь смывал с деревьев унылую желтизну. Но вчера была ранняя весна, таял снег и бежали ручьи. “Свершилось!” — воскликнул я, и сердце моё радостно забилось. Но почему не весна? Мозг лихорадочно работал. Значит, я был не первым? Значит, сейчас другой вспоминает обо мне, уже мёртвом? Облокотившись о подоконник, я стоял, будто ребёнок, постигший вдруг, что смертен. Но сколько мне отпущено? День? Бабочка, трепещущая на булавке! Мысли спутались, я заплакал…»
«Но что даст неделя? месяц? год? — успокаивали себя в другом письме. — К чему тянуть пытку? Ради серенького дождя? Свинцовых туч? Ради этой комнаты, ставшей Вселенной? Злая шутка! Вечно проживать свой последний день!»
«И что мне до двойника, который явится завтра? — спрашивали в третьем послании. — Сегодня исчезну Я — вот единственная в мире истина! Клянусь, я разбил бы машину! Но надо оставить шанс потомкам — какое нелепое наречение себя! — быть может, они разомкнут этот круг».
И на всех посланиях стояло невидимое: «Дон Имаго, которого уже нет, — дону Имаго, который ещё не родился».
Среди рождённых на день, как ни странно, находились и те, кто томился скукой, сходя с ума от вынужденного безделья. Такие приводили в порядок дом и чистили одежду, которая для них была саваном. Наиболее деятельные выясняли, не появилось ли лекарство, продлевающее им жизнь. Другие не могли решить, как распорядиться своим единственным днём, ими владела неизъяснимая фобия перед миром, и они не смели отлучиться из дома. Иные делали бога из смерти. И их утешала вера в завтрашнее воскресение. Они молились, чтобы не сломалась машина. Автор одной из записок кичился тем, что прожил два дня. Другой, не вынеся знания смертного часа (его незнание и отличает человека от дона Имаго), покончил с собой. Жажда деятельности толкала некоторых на яростную борьбу. Однако, уходя из дома, они не успевали выбрать себе противников. Погожий денёк родил эпитафию: «Мне было хорошо». Некоторые исписывали целую тетрадь, большинство довольствовались строкой: «Здесь был дон Имаго». Избирались и поэтические формы. Встречались записки, содержавшие лишь календарную дату. Выискался некто, проведший свой день во сне.