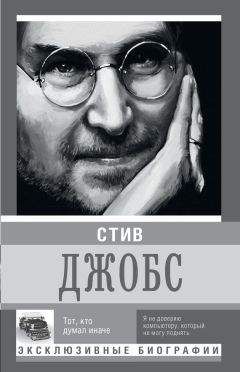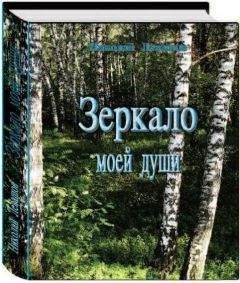Марианна Гончарова - Дракон из Перкалаба
Глава десятая
Хованец
Мне однажды было совсем плохо, очень невесело и ничего не хотелось. Я не спала, не ела и ничего не читала. Пришла Владка. Тогда она уже ездила к Василине чуть ли не каждую неделю, отпрашивалась правдами и неправдами и приезжала назад такая счастливая, с ворохом рисунков, набросков, отдохнувшая и уставшая. Мы все даже не могли поверить, что она ездила всего лишь в глухой кут к какой-то старухе, пусть и необычайной, пусть и симпатичной. Но разве это не скучно — мотаться туда за сотни полторы километров каждые выходные? И вот она в очередной раз примчалась оттуда. Пришла ко мне. Принесла подарок — Домовичка. То есть она звонила мне по телефону, я отказывалась говорить, отмалчивалась, а чаще всего вообще не брала трубку. Владка думала, как и чем порадовать, и за несколько дней сделала этого Домовичка.
В небольшом и уютном, из бересты, лапоточке, в длинной не по размеру рубахе из мешковины, зябко натянутой на острые колени, сидел старикашечка — косматый, с длинной седой бородой и пышными усами. Он смиренно сложил ладошку к ладошке под румяной щекой, как будто предлагал — поспи, ну-ка, давай поспи.
Все было не случайно. Спустя какое-то время, уже после того как Владка ушла совсем, я отправилась в горы, как и хотела, чтобы встретиться с Василиной, с Алайбой и спросить, обо всем спросить. И когда увидела деда Алайбу, вдруг поняла, что у моего Домовичка было его помятое морщинистое доброе лицо.
А встретилась с ним, с Алайбой, Владка ведь потом. Через несколько лет после того, как любовно сочинила для меня этот оберег, и уже когда ходила сквозь мутный густой воздух, как коленями проталкивалась через тяжелую воду. И в ней вызревало ненастье, и сердце уже бунтовало, и мутило Владку страшно, и приближалось на мягких рысьих лапах предательское неминучее, а многочисленные подруги-приятельницы продолжали по старой привычке нагружать ее регулярно всеми своими мелкими проблемами, подробно раскладывая перед Владкой, как на демонстрационных полочках, мельчайшие детали и детальки собственной жизни: свои легкие сезонные недомогания, своих мужей, своих любовников, своих родителей и сотрудников, требуя от нее подумать и посоветовать, частенько при этом перезванивая и капризно спрашивая: ну, ты придумала, что мне делать?..
Омелы. Настоящие омелы.
Есть такой странный куст, орешник дикий, что ли… Вискум албум — его по-научному называют. Омела белая.
Как-то мы с Владкой вдруг увидели на деревьях вдоль дороги огромные черные шары и еще по ошибке подумали, что какие-то странные птицы свили эти гнезда, и что бросили их, видимо, давно, и стоят эти деревья сиротливые, усохшие и недужие. И кто-то из ведающих нам растолковал, что это вовсе не птичье гнездо, а растение такое — впивается корешками прямо в самые сочные, самые густые ветки дерева, желательно почти на макушке — чтоб зелень свежая, чтобы соки молодые. И поселяется там, и начинает на нем, на этом дереве, паразитировать. Вырастает быстро в пышный шар с толстыми кожистыми мясистыми листками, с крепкими узловатыми переплетенными ветками.
Это только недавно я узнала, что омелу белую знахари и мольфары называют «ведьмино гнездо». Пользуют его знахари в лечении, но крохотными дозами и очень осторожно. Потому что, говорят они, гнездо ведьмино, омела белая, — ядовито и вроде и не растение вовсе, а что-то живое, но бездушное.
Есть в мире и люди такие — вот так же впиваются в другого человека, отбирают силы, крепнут, наливаются, молодеют, а когда ты начинаешь угасать да сохнуть от слабости, оставляют тебя и перебираются к другому человеку и опять впиваются своими крепенькими и цепкими корешками ему в душу.
Так было и с Владкой. Много омел, много ведьминых гнезд поселялось неподалеку и вонзалось в ее жизнь своими острыми щупальцами, высасывая для себя энергию, соки, радость и пользу, пользу для своих мясистых лоснящихся жирных кожистых листиков.
Вот — Авлентина, прилипчивая, всегда пасмурная и целеустремленная. Она не колеблясь влезала в чужие жизни, где ее угрюмость принимали за грусть, а ее жалобы и бесконечные просьбы о помощи за неустроенность сердечную, где привечали ее, выслушивали, подавали руку помощи и подкармливали. Так она вдруг свирепо и намертво вцепилась и в жизнь Владки. И уж потопталась там в свое удовольствие, и похозяйничала, и обгрызла, что захотела. А однажды обозлилась крепко и от злобы своей, перехлестывающей через край, да так, что в глазах ее пустых, стеклянных, бледно-зеленых, выцветших, огонь как в печке играл, взяла да и с лету бросила слово неслучайное и гневное. И счаровала Владку мою, и наврочила.
И поняли мы все это только благодаря деду Алайбе, но поздно уже было.
* * *Если мастерить сувениры — сопилки, окарины из глины с подножья Чорногоры, разные прикрасы на шею — гарды, си́лянки, боутыци в волосы девочкам, а еще иметь всякую дробьету — мелкий скот — козу, пару овец, а то и маргу — корову, лошадь, а еще и янчарку (старую рушницу, ружье) для охоты или защиты — можно жить в горах, не следя, какой век, кто у власти, какие ходят в долине мелкие страсти «межи люды» (между людьми), а только мерить время жизни, годы свои по выпавшим снегам, дождю, зелени или золоту лесов, цветению да пению птиц на рассвете или ночью. Кроме всего прочего, дед Ива Алайба был мосяжник — делал из металла украшения на одежду, на топорища, на ремни, а также перстни, игольнички, крестики, кубки, люльки (курительные трубки), усердно вычеканивая инструментами своими редкими, еще дедовскими, узоры на них византийские.
Дед Алайба, кряжистый молчаливый старикан, в рубахе чистой, грубой, с полынным запахом, в лайбычок одетый от сырости, такой жилет из кожи овечьей, в ногавицах — штанах грубого полотна, в шляпе старой с перышком ластовицы за лентой, пришел к Василине на обыстя (во двор), во второй или третий Владкин туда приезд, пришел неспроста, а по Василининому зову — посмотреть и согласиться, что девушка необычная, зазулица ворожная (обворожительная), паняночка выкоханная чемная (учтивая и обходительная) и розумнычка понятливая, но кем-то зчарованная, то есть околдованная. Позвала Василина деда Алайбу снять с Владки тихо наговор, потому что поняла Василина, что именно Владка ей нужна была, как никто другой. И жалела она ее сильно, как свою родную донэчку, и болела за нее душа у старухи. И уже говорила Алайбе, радовалась, что есть одна дытынка, свежая и чистая, як бросты на дэрэви (как почки на дереве), и внимательная, и участливая, и разумеющая. Но уж сильно открытая. И знаки были, и сон, что собирает Владка стругы — форель из воды руками, серебристую, аж глаза режет, так рыбка сияла, только потом в ее ладонях не рыбка оказалась, а жаберина — лягушачья икра. Это верный признак был, что кто-то злонамеренно и прицельно наврочил девочку. За искренность ее, красоту, открытость и любовь к жизни, позавидовал и наврочил. Кто-то умелый, расчетливый, завистливый, злой.
* * *Однажды Владка приехала в Вижницу к подруге Светке. Мы к ней тоже частенько ездили — она так и осталась после окончания художественного училища в этом городке, уже и академию художественную окончила, но с горами не смогла расстаться. Подруга наша Светка, когда впервые в Вижницу приехала, сказала кому-то в небеса, тихо-тихо, но восхищенно: хочу тут жить. Говорят же, если у тебя есть самое сокровенное, самое твое главное потаенное желание, то хоть раз в жизни оно сбывается. Вот Светка и осталась в Вижнице, стала преподавать в том же училище, в котором обе — и она, и Владка — учились.
Приехала Владка, вошла. У них со Светкой были планы на эти два радостных дня. А у Светки в гостях как раз та самая Авлентина и сидела, одинокая, несчастная, только после болезни, еще не отошла, слабенькая. Светка, добрейшая душа, всех сироток пригревала. А скорей, они сами к Светке тянулись, как у таких принято. Чтобы пользоваться ее добротой, ее силой и энергией.
Уже потом и Светка, и Владка вспоминали, как быстро тогда изменилось настроение унылой растерянной Авлентины, как вдруг, уже попрощавшись, вроде и понимая прозрачные совсем намеки, что подруги встречаются редко, что им надо поговорить, вдруг Авлентина осталась, усевшись рядом с Владкой, подвигаясь все ближе и ближе, даже приобнимая и касаясь ее плеча, руки, заглядывая в глаза. И просила, бесстыдно просила у нее — то колечко ручной работы, продать или поменять, или подарить, то спрашивала, не продаст ли кофточку, что на ней, то волосы гладила Владкины роскошные, длинные, приговаривая, вот бы мне такие, то гребень Владкин вдруг взяла и побежала к зеркалу мерить, воткнула в свои пегие неживые патлы его и приговаривала: вот бы у меня такой был бы, вот бы у меня такое было, как хочу все такое, как у тебя, — и не жалела слов про волосы — мерцающие, пышные, длинные, здоровые, роскошные волосы. И хвалила-хвалила срывающимся в истерику голосом, хвалила Владку, что, мол, совсем лицо не красит — ни губы, ни глаза, умылась, и все? — допытывалась: