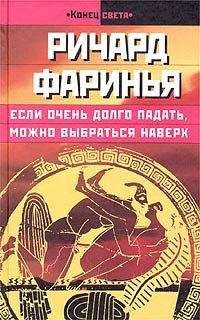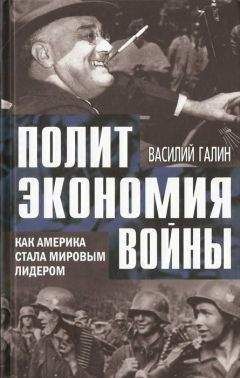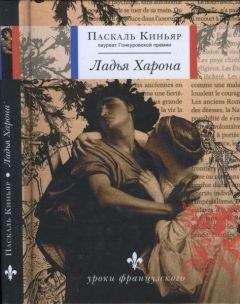Паскаль Киньяр - Салон в Вюртемберге
У меня есть свой способ понравиться: я упрямо стараюсь, как это ни смешно, умилить окружающих своей неуклюжестью и, таким образом хотя бы воззвать к их снисходительности, к их доброте. Этот способ всегда казался мне безотказным: чтобы понравиться, следовало выглядеть беспомощным неумехой, эдаким тюфяком. Впрочем, если вдуматься, такое поведение свойственно не столько маленькому человечку в колыбели, сколько луковице в горшке или хризантеме в кладбищенской вазе.
Я питал нежную привязанность к зеленому внедорожнику, купленному несколько месяцев тому назад. По субботам, в десять утра, после четырех-пяти часов игры на виолончели, я ехал в Шату. К одиннадцати я уже добирался либо туда, либо в Сен-Жермен. Я был готов вспыхнуть, как груда сухих листьев. Я и сейчас похож на эти листья – только чуть более пыльные чуть более съеженные, но зато более яркие – красные, желтые, белые – и словно отлакированные дождями и порывами ветра. И однажды искра вспыхнула: это случилось в тот миг, как я подъехал к дому. Ибель была одета в легкое шелковое платье черного цвета – и как же она была красива, как величественна, как царственно-небрежна!
«О, Карл, вы с ними разминулись буквально на минуту! Дельфина и Флоран поехали на праздник в школу Дельфины. Они вернутся не раньше половины первого. На обед у нас баранья лопатка, а к ней… – добавила она так торжественно и напыщенно, словно речь шла о каком-то редком изыске, – будет овощное ассорти!»
Я поцеловал ее в щеку. Я сильно опасался, что под красивым словом «ассорти» скрывается обыкновенная фасоль. Она приготовила две чашки кофе. Ее шелковое платье облегало тело и подчеркивало каждое движение этого тела. Я сидел неподвижно, стараясь не глядеть на тело Ибель. Стараясь глядеть только на облекавший его черный шелк. Она подошла к низкому столику. Передвинула лежавший на нем камешек. Передвинула цветы.
«По правде говоря, – сказала она как бы про себя, чуть брюзгливо, подбирая слова и отчеканивая эти слова, – я не думаю, что нужно провести всю жизнь в ожидании, когда рак на горе свистнет, чтобы в один прекрасный день убедиться, что нет никакой горы и никакого рака».
«Вы правы, Ибель. Я с вами согласен».
Я сидел в оцепенении, без сил, без единой мысли в голове. Она опустилась на корточки перед журнальным столиком, спиной ко мне, и стала вынимать цветок из вазы. И вдруг произнесла – тихой, приглушенной скороговоркой:
«Карл, мне хочется раздеться перед вами, здесь, прямо сейчас. Мне очень этого хочется».
Наступило молчание – как теперь мне кажется, именно мое. Этот дрожащий, тоскливый голос, это предложение потрясли меня. Она не двигалась, продолжая сидеть на корточках, спиной ко мне. Я подошел, схватил ее за плечи, поднял, привлек, прижал к себе. И начал целовать ее плечи.
Она отстранилась и повторила:
«Я хочу раздеться».
Я невнятно пробормотал «да»; замешательство – или желание – пресекло мой голос. Она смотрела на меня, склонив голову к плечу, с бесстыдным торжеством, которое трудно описать. Я взглянул на ее платье, на это длинное черное полотнище, упавшее кучкой к ее ногам: скомканный шелк еще хранил тепло и нежность форм, которые только что скрывал от взгляда. Потом я поднял глаза на Изабель; не могу передать, как прекрасно было это тело и как я любил ее.
Ты заключаешь в объятия горячее тело, оно для тебя – центр вселенной. Страстно обнимаешь его. Сам ты в этот миг – всего лишь точка в пространстве, почти мысль. Единственное тело, существующее в мире, принадлежит пылкому существу, которым ты стремишься овладеть.
Мы удивленно раскрываем глаза. Мы безмерно поражены. Мы никак не можем поверить собственным ощущениям. Никак не можем привыкнуть к тому члену, что символизирует наш пол, к метаморфозам этого члена, к притягательной силе, которая в нем таится; всякий раз это так неожиданно, всякий раз приводит в изумление. И мы не устаем – год за годом, тысячелетие за тысячелетием – подвергать его испытанию. И никогда не находим в нем ничего, что насытило бы наше любопытство, а оно снова и снова распаляет наше вожделение. Вот почему мы заводим, одну за другой, связи, которые, будучи изначально абсурдными, все-таки заставляют наше сердце трепетать, глаза – гореть, а горло – сжиматься. И всегда с недоумением, а потом и с яростью убеждаемся, что наш член сам по себе не имеет никакого смысла.
Она протянула руку и включила лампу «carsel». На улице снова зарядил дождь. Он начался уже после наших объятий. Я лежал, уткнувшись лицом в ее живот. Она гладила меня по спине и вдруг спросила:
«Карл, что за шрам у тебя на плече?»
Я чуть смущенно рассказал ей про то памятное утро 1946 года. Мне было три года. Мне показалось, будто мама с размаху бросает мне прямо в лицо вазу братьев Дом. Я попытался увернуться, и ваза угодила мне в плечо, а не в голову. Рана оказалась довольно серьезной, меня отвезли в больницу. Там я страдал не столько от боли, сколько от больничной обстановки и от разлуки – не с фройляйн Юттой, конечно, а со своими сестрами. Возвращение домой стало для меня, без сомнения, самым прекрасным воспоминанием в жизни. Я страшно гордился перед сестрами тем, что мать отличила меня среди всех прочих, пусть даже таким образом. Приезд из больницы вылился в настоящий триумф и стал поводом для грандиозного пиршества с горами песочных, кремовых и шоколадных пирожных.
Рассказывая Ибель эту историю, я обнаружил одну поразительную вещь, которую раньше не замечал. Я жадно вгляделся в ее лицо.
Она улыбнулась мне. Я изучал ее взгляд, ее глаза. И внезапно я понял, что меня зачаровывало, хотя я тогда еще не постиг всего значения своего открытия – сходства Ибель с моей матерью: обе они были высокие, стройные, с сумрачным, жестоким взглядом.
Любострастные игры волшебно преображают тела. Люди, желающие нравиться, притягивают свет, накапливают его в себе. Тела любовников излучают сияние. Их движения легки и уверенны – по крайней мере, вначале, до того, как они долго занимались любовью, или до того, как обнаружили, что желание, влекущее их друг к другу, вовсе не так уж исключительно, как им прежде казалось. Вообще, всякий любовный роман заканчивается примерно так: «Ах, простите меня, я ошибся. Я принимал вас за кого-то, кто… за кого-то, кому… Я обознался…»
Я силился представить себе что-нибудь огромное, сравнимое с огромными золотисто-голубыми очами Изабель. С ее прозрачными, колдовскими, бездонными очами. Затуманенными, влажными (такими же влажными, как нередко бывали ее ноздри) от слез гнева или безудержного хохота. Ее глаза, ее зрачки, и этот светлый блик на голубой эмали… Крошечная Австралия, затерянная на голубоватом земном шаре.
Я хочу описать взгляд Ибель, но это значит описать невозможное – все равно что выразить в звуках безмолвие. Я набрасываю на бумаге короткие заметки. И никак не могу связать их воедино. Мало-помалу во мне всплывают воспоминания о нескольких сценах – смутные, расплывчатые, подобные странным пузырям, всплывавшим на поверхность стылой воды Пфуля, озерца в глубине бергхеймского парка, где обитало множество сомов, маленьких черепах и лягушек; гомон этих последних вызывал у меня в детстве и восхищение, и смутную боязнь. Я наверняка записываю эти сцены-миражи потому, что они – и они тоже – наводят на меня страх не столько самой своей сутью, сколько внезапным, сбивающим с толку возникновением в памяти. Все, что я пишу, кажется мне лишенным вымысла, кажется мне необходимым и словно продиктовано каким-то призраком. Я набрасываю эти записи, потому что рассказать об этом невозможно. Любовь не поддается пересказу, любовное страдание не поддается пересказу, любовное счастье тоже не поддается пересказу. И сияние любви также не поддается пересказу: оно чудесно, но ничего не освещает, и в конечном счете кто знает, может быть, это чувство, этот проблеск истины, страсти, откровенности, наготы, естественности – всего лишь ложь во плоти, в человеческом теле, на миг ставшем пылающим костром, ставшем солнцем, – сами эти образы вызывают сильные сомнения. Нет, любовь не поддается пересказу. Можно ли сказать: «У нее были груди, которые… ноги, которые… ягодицы, которые…» – и тут же, следом, заговорить о неопалимой купине? О Боге? О солнце? Мы просто безумны.
И все же я любил ее. Любил ее глаза – быть может, сильнее, чем все остальное, – расширенные, голубые, сияющие, жестокие, ужасные (какие дурацкие, ровно ничего не говорящие эпитеты!), – ее огромные голубые глаза, ее черные волосы, гордую посадку головы. И звук ее голоса, слегка дрожащего, вибрирующего, чуть глуховатого, с неожиданными звонкими нотками, не то чтобы сдавленного или ломкого, но, скорее, гортанного; а зимой, когда она часто простужалась и ходила с влажным, покрасневшим носом – что делало ее еще прекраснее, – в этом гортанном голосе, теперь действительно сдавленном и ломком, слышалась дополнительная хрипотца, трогательная и волнующая.