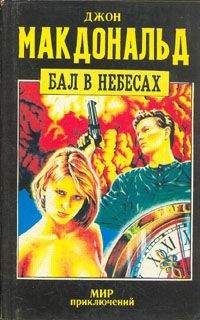Андрей Дмитриев - Бухта Радости
Встал, повернулся к стойке и тронул тумблер громкости музыкального ящика, из-за чего мужская жалоба на незнакомом языке усилилась, – и вышел на крыльцо. Вскоре пес смолк. Байрам вернулся в павильон не сразу. Вернувшись, сел за столик и, оглядев столы, сказал:
– Я, Гамлет, закрываюсь прямо сейчас. Этот шакал, мой пес, он – вещая собака. Он мне нагавкал: едут неприятности. Зачем нам неприятности, скажи?
– Нас это не касается, – ответил Гамлет. – Ты знаешь, Карп с неприятностями заодно.
– Как хочешь, уважаемый; мое дело – предупредить.
– Спасибо… Я что хотел тебе сказать, да все никак не получается. Если ты вечером свободен, то сделай одолжение, приди к столу, я думаю, что к десяти. У моего отца сегодня юбилей.
– Сколько Ишхану?
– Шестьдесят.
– Спасибо, я приду.
Стремухин понял смысл лишь четырех последних реплик разговора и, чтобы нить его уже не упускать, решился потянуть ее к себе. Спросил, кивнув на музыкальный ящик:
– О чем же эта песня?
– О любви, – ответил ему Байрам, подумал и, прищурившись, добавил: – Если прислушаться, конечно… Она узбекская, мне кто-то говорил; я слов не понимаю. – Он встал из-за стола; пообещал, прощаясь: – Я в десять буду обязательно.
Стремухин вслед за Гамлетом вышел из павильона. Был светлый вечер. На пляже посвежело и поубавилось народу; забытый всеми волейбольный мяч болтался на волне у берега. Огибая ивы, Стремухин спросил:
– О чем он говорил? Какие неприятности?
– Он говорит, их пес ему нагавкал… – насмешливо ответил Гамлет. – Конечно, чушь, а может, шутит. Не этот пес ему нагавкал, который там, на пляже, гавкает, – тот пес ему нагавкал, что по мобиле вовремя звонит.
Стремухин сделал вид, что понял, и умолк надолго. Умолк и Гамлет.
При его приближении дремавший, словно бы приросший к своему пластмассовому стулу Карп открыл один глаз, приподнял бровь, сказал:
– Просили два свиных и два люля; одна картошка, два салата, но без лука. Вон те, – Карп безбровой бровью указал на столик с краю, за которым обосновалось покуда не раздетое семейство: жена и муж, оба в зеленых одинаковых рубашках и в белых одинаковых бейсболках, их пятилетний сын, задрав трусы, с истошным визгом бегал по воде вдоль кромки берега, не слыша криков матери: “Петюня, успокойся! Не замочи рубашечку!”.
– Картошка, два салата, но без лука, – запоминая, повторил за Карпом Гамлет и, уходя на кухню, сообщил: – Борису позвонили; он говорит: к нам едут. Суббота, странно как-то…
– Нас это не касается, – ответил Карп. – Но это странно, тут ты прав.
Карп подобрал со столика мобильный телефон. Стремухин, вспомнив, что еще ни разу не купался, стал сбрасывать с себя одежду, пропахшую шашлычным дымом, на песок. Карп ворковал, прижав мобильник к уху:
– …Я это, я; уже не узнаешь? Ты где пропал? Забыл нас, пашешь все и пашешь, и о своем здоровье не заботишься, а то, смотри, ты только мне скажи заранее, дня за два, за три, – все будет, как всегда и в лучшем виде, и даже лучше, на сколько хочешь, пожелаешь человек… И слушай, тут одна азербайджанская сорока натрещала, что ты сюда послал кое-кого. Тебе виднее, но мне странно: суббота, выходной, погода, дети: тут пол-Москвы с Мытищами культурно отдыхают – а этак можно распугать всех навсегда и оскандалиться зачем-то… Что ты сказал?… Ну, извини. Прости, я говорю…
Брезгливо, будто грязную салфетку, Карп бросил телефон на столик.
Входя в темнеющую воду, Стремухин помахал рукой пилоту. Тот, сидя без забот на крыле своего самолета и накренив его собой, болтал ногами над водой. Карп за спиной Стремухина кричал:
– Борис напутал или врет! Наш друг к нам никого не посылал, он вообще не на работе, он у себя на даче отдыхает! И нечего – ты слышишь? – гнать волну!
Гамлет из кухни не ответил.
Да ну вас всех, сказал себе Стремухин, закрыв глаза и осторожно погружая тело, затем лицо в прохладное тепло воды. Как будто женские ладони сомкнулись на его затылке; в упавшей отовсюду тишине вода запела дальним и глубоким голосом. Стремухин медленно открыл глаза, расправил руки и поплыл, руками разымая и лицом расслаивая бесчисленные складки плотных красных занавесей, прошитых сверху вниз и наискось оранжевыми, белыми и золотыми нитями. Но скоро воздух, запертый в груди, стал тверд, как камень; Стремухин, головой боднув, подался вверх, и воздух вырвался на волю. Хлебнув воды, и выплюнув ее, и отдышавшись на ее поверхности, Стремухин лег на спину. Перед глазами было небо без облачка на нем, уже не синее, почти и непрозрачное. Оно, казалось, набухало тяжелым светом вечера, и опускалось вниз от тяжести, и падало с возникшим, словно ниоткуда, гулом. Гул быстро стал невыносим, Стремухин запаниковал и забарахтался, нырнул с усилием – и вовремя, иначе б голову его снесла слепая морда аквабайка. Как только гул над головой стал рыхл, он вынырнул, отплевываясь в ужасе и матерясь, увидел краем глаза дугу тугого буруна и заполошными саженками заторопился к берегу. На мелководье встал на дно и выбежал на сушу, придумав на бегу убийственное хлесткое словцо, которое, как он победно чувствовал, должен был с радостью услышать и подхватить весь многолюдный пляж, но, обратясь к воде, тотчас забыл свое словцо: заглохший аквабайк, подобно дохлой, вздутой рыбе, качался кверху брюхом на волне; его хозяин-аквабайкер беспомощно цеплялся за него, барахтаясь, пытаясь безуспешно перевернуть его и взгромоздиться на него, чтобы уплыть подальше от позора. Благостный смех разобрал Стремухина, и его смеху вторил пляж. Пилот сказал:
– Заколебали. Рыба дохнет, уши глохнут, да и вообще опасно.
Разогреваясь, Стремухин пробежался взад-вперед, потом размяк и мокрым животом упал на теплый песок, лицом – на свою скомканную рубашку. Спросил по-свойски:
– Гамлет, как там хашлама?
– Совсем немного, – отозвался тот из кухни. – Минут пятнадцать-двадцать, и я картошку сверху положу. А там еще каких-то полчаса, ты не скучай… Карина, дай же человеку выпить, а то он совсем скучает!
Шаги Карины зашуршали по песку. Стремухин приподнял голову и увидел широкие лодыжки женщины, обутой в пляжные сандалии. Ногти с облезлым лаком растрогали его. Карина наклонилась, обдав его запахом дыма и сладких духов, установила ровно на песке, чтоб не упал, пластмассовый стакан. Сказав: “Попей вина и отдыхай”, – она ушла.
Стремухин приподнялся на локте, взял стакан и одним махом выпил красное вино. Он огляделся. Пара рыжих малолеток сидела молча за пустым столиком; оба смотрели неподвижно в одну точку, но точки были разные. Бритоголовые подростки на песке о чем-то очень нервно, недовольно, но негромко препирались меж собой. Стремухин вновь спрятал лицо в рубашку. Из тьмы вплывали в его слух их голоса, разбавленные разнообразным и монотонным шумом пляжа и отдаленным шумом катеров:
– Ты позвони ему.
– Ему нельзя самим звонить, запрещено. Сказано, ждать!
– Кто он такой, чтоб запрещать и говорить?
– Поговори…
– Нет, Кок, мы тут изжаримся и только. Может, мы сами?
– Я тебе дам, сами. Мы не шпана…
– Да ладно, не шипи, но я скажу: если звонка не будет полчаса – пошел он на хер со своим звонком!
– А ну без мата, я сказал!…
– Да он хоть знает, как тебе звонить? Он, может, потерял твой номер? Может, твоя мобила не берет его звонок?
– Он ничего не потерял. Моя мобила все берет. И у него есть все наши мобилы, если что! Он знает твой, и твой, и твой, и все другие наши номера. Он знает все, что надо. И если не звонит пока, значит, положено.
– Он же сказал тебе: примерно в полседьмого. А сколько сейчас, ты посмотри.
– И нечего смотреть. Ждите и все.
– По-моему, Чапа прав, лучше не ждать, и лучше нам самим, а то от скуки сдохнем. Мало ли что с ним, может, он забыл!
– Он ничего не забывает, я тебе сказал! И не потерпит, чтобы кто-то самовольно, как шпана… И я не потерплю, ты понял?
– Да ладно, напугал! И ты чего все оскорбляешь: шпана, шпана… Получишь по е…лу – и поймешь, кто здесь шпана, а кто и не шпана… И не хера, бля, корчить из себя…
– Не материться, я сказал! Мы кто? Мы что – как те? Мы грязь?
– Да хватит вам… Ждать, значит, ждать. Мы ж не мешки таскаем – отдыхаем!… Еще пивка?
– Уже не лезет… А, давай!
– Открой и мне.
Они умолкли, дав простор иным шумам: шипенью открываемых пивных жестянок, шлепкам ослабших волн, уж полчаса как поднятых большой и медленной баржой там, где-то на большой воде, и лишь сейчас достигших заводи; потокам музыки, все еще хлещущим из магнитол автомобилей, приткнувшихся у пляжа в тени сосен, из отдаленных павильонов и киосков; звону мяча и непонятным, пусть и близким, частым и резким, будто выстрелы, хлопкам где-то за соснами; как только раздавалась трель свистка, хлопки, как по команде, умолкали.
Стремухин отлежал живот, перевернулся, тихо охнув, на спину и сел. Увидел заводь: там еще барахтался бедняга аквабайкер, не в силах оседлать свой аквабайк; потом Стремухин поглядел на столик с малолетками: они уже смотрели друг на друга, но ни она, ни он молчание нарушить не решались, как если бы нарушить его первым означало признать свою неправоту.