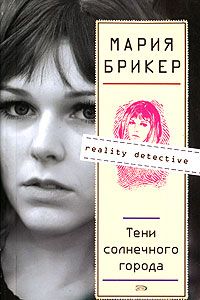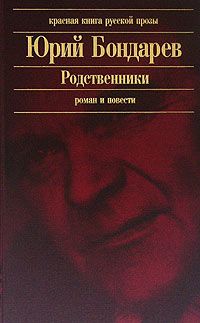Юрий Бондарев - Искушение
Прошла неделя после похорон, повседневность входила в свою колею. А тот день, когда Дроздов увидел фотографию звездного неба в кабинете академика, и тот незабытый разговор осенним вечером, его предсмертное письмо, вернее — записка, несмотря на их прохладные отношения, оставленная ему вместе с желтой папкой, где были собраны Тарутиным документы о проекте Чилимской ГЭС, не использованные и не посланные «наверх», — все приоткрывало в жизни Федора Алексеевича многое, в то же время затуманивало основное. Чем он жил в последние годы, в сущности, одинокий, больной, но еще упорно цепляющийся за земное существование, за место в науке, еще не чуждый тщеславия, что крайне удивляло Дроздова, не соглашавшегося, что старости вдвойне свойствен этот наиболее распространенный человеческий недуг?
Предсмертная записка, неожиданная до ошеломления («Почему он написал ее мне, липовому родственнику?»), не выходила из головы, угнетая покаянным малодушием, запоздалой, уже бездейственной искренностью человека, уходившего из жизни с осознанием вины. И уставая от неумения прощать самому себе, Дроздов то и дело подсознательно повторял врезавшиеся в память одни и те же фразы, написанные на очень белом листе бумаги тонким, скошенным вправо мелким почерком, напоминающим женственную арабскую вязь:
«Дорогой Игорь Мстиславович! Страшно это, не правда ли? Смерть… Но я устал бороться не с болезнью, не со смертью, с самим собою. Я устал смертельно. Федор Григорьев».
После злой досады на Чернышова в день похорон Дроздов уходил от деловых встреч с ним в институте, но, сталкиваясь по утрам в приемной — двери их кабинетов были напротив, замечал на румяном его лице подчеркнутый знак печали: веки скорбно опускались, прикрывая покорные глаза, он со стоном вздыхал толстоватым носом, как если бы дал обет незапамятно пребывать в трауре. Ему, первому заместителю, по стечению горестных обстоятельств пришлось временно взять на себя обязанности директора института. И порой Георгий Евгеньевич имел вид несчастной жертвы, истекающей потом совести. В приливе чувств он как-то сказал, что, будучи в аспирантах, был соблазнен на всю жизнь любовью к науке благодаря доброте и отзывчивости великого академика, именно великого, поэтому малейшая измена истине учителя равносильна для него, скромного ученика, гибельному самоуничтожению.
Получив отстуканное на машинке приглашение Чернышова пожаловать на дружеский раут, «а-ля фуршет», который состоится в субботу в восемнадцать ноль-ноль по беспричинному случаю (английская шутка?), Дроздов сперва заколебался, заранее вообразив этот пустопорожний и нетрезвый вечер со сплетнями и мутными предположениями об изменениях в институте с общими либо крикливыми формулами, по сути, не приводящими ни к чему. Но потом вроде бы кто-то осуждающе подмигнул ему: неужели уходишь от всего суетного и пребываешь в гордыне? Подумают, что ты в контрпозиции и вожделенно мечтаешь занять место Григорьева. И он с некоторым преодолением поехал на улицу Мархлевского, где был два года назад по случаю опубликования большой работы Георгия Евгеньевича об экологических проблемах Сибири.
Когда на восьмом этаже он позвонил в квартиру Чернышова, дверь оказалась не запертой, в передней разгоряченно толпились незнакомые молодые люди с рюмками, на него не обратили внимания, он сказал им наугад: «Привет, коллеги», — и сейчас же оказался в хаосе голосов, затопивших столовую, окруженный гудящими спорами гостей, как всегда, после трех рюмок уже не управляемых никем, перебивающих друг друга («Ой-ёй-ёй!») добродушными восклицаниями, наигранным аханьем, язвительным смехом. И ему, еще трезвому, было любопытно видеть потные, коньячно-красные лица, на которых появлялось самое разное выражение — самодовольной уверенности, задиристо-смелого вызова, оскорбленного достоинства, непомерно резвой едкости — и делались то округленными глаза, то взор становился внимательным или бездонным, то по губам змеилась улыбка и вместе с ней голос обретал извивающийся оттенок. Он хорошо знал многих из них, разумных и не вполне далеких, необъяснимо удачливых и не очень везучих, и, не завидуя никому, бегло подумал с совсем уж неоправданной ироничной жалостью ко всем собравшимся на этот раут:
«Сколько здесь самолюбий, тщеславий, обид, нереализовавшихся оскорбленных замыслов и надежд! Что нас объединяет? И объединяет ли нас что-либо?»
Среди толчеи возле стола, среди встречного движения по комнатам этих знакомых, малознакомых, приятных и малоприятных лиц ему хотелось увидеть Валерию, ее в улыбке синеющие мартовским снегом зубы, блеск насмешливой приветливости в глазах, — молодую, казалось, во всем независимую женщину, которую в полусерьезном общении он привык видеть в течение целого месяца на пляже, привык к звуку ее голоса, походке, улыбке, почему-то вселявшим в душу не беспокойство желания, а веселую жажду игры, подобно той безобидной шутке с венчанием. Это мальчишеское озорство, конечно, возникло и от переизбытка крымского солнца, моря, южного неба, что не полностью было забыто.
Не вступая в разговоры, держа рюмку в правой руке (чтобы не здороваться и не задерживаться), он прошел через столовую в другую комнату, надо полагать, гостиную, где волнами колыхался тот же базар голосов, вокруг столиков с бутылками, фужерами и закусками на подносах. Здесь, в этой освещенной предзакатным небом комнате, он не сразу увидел в дальнем кресле Валерию, окруженную группой мужчин. Она отпивала из бокала красное вино и, подняв глаза, слушала Тарутина, который, выделяясь сильной бронзовой шеей, потертыми джинсами, вроде бы наперекор кричащими вблизи с добротными костюмами гостей, выделяясь небрежно распахнутой на груди спортивной рубашкой, стоял, поигрывая бутылкой коньяка в опущенной руке, и разговаривал с кандидатом наук Улыбышевым, неразлучно следующим за ним повсюду, худеньким молодым человеком в дешевых очках, яростным спорщиком, всегда взвинченным, с нежными и страстными глазами, какие бывают у способных, увлекающихся «завиральными» проблемами людей. Рядом нетерпеливо курил Гогоберидзе, видимо, дожидаясь конца спора; его жена Полина, с застенчивым лицом, в черном платье, скрывающем полноту, тоже курила вместе с мужем, охватывая сигарету маленьким сердечком рта.
— Карл Ясперс — это великое открытие пограничной ситуации в нашей жизни, которая, взрываясь, снимает ритм идиотического быта! — донесся до слуха Дроздова негодующий тенор Улыбышева. — Мы все изо дня в день в пограничной ситуации, в плену стрессов, в шизофреническом расстройстве эмоционального мира! Такого не было в истории! Ясперс объясняет нас самих!
— Твой Ясперс не объясняет, что Россия находится в пограничной ситуации, между Востоком и Западом с петровских времен, поэтому больна третий век?
— Петр — зловещий хирург. Орудовал не скальпелем, а бритвой, — сказал Гогоберидзе.
— Я говорю — Ясперс! Карл Ясперс! Что вы все на меня смотрите папуасом? — вскричал Улыбышев в растерянности. — Мне жалко всех вас! Вам ничего не говорит это имя! Темнота! Тмутаракань!..
— Яшенька, ты никогда не устаешь от своей глупости? — Тарутин с едкой усмешкой поиграл бутылкой. — Позволь, мальчик, я тебе налью, чтобы снять стресс, — добавил он, смягчаясь, и налил в сердито подставленную рюмку. — Что касается твоего Ясперса — это поднебесная белиберда. Гоголь-моголь. Яичница из галош. Что касается истории, то, видишь ли, Яша, над ней давно уже надо устроить суд. Жестокий и немилосердный. Тогда кое-чего поймем. Ясно, младенец ты мой? История, будь она проклята, обезличивает всех нас и превращает в мокрых слизняков, подчиненных вранью. Запамятовал, кто это сказал, но сказал здорово. Что-то вроде того: мы плывем по темному морю неразумия, привязанные к шаткому плоту рассудка. Вот так, Яшенька. Вот так, чудесный.
— И нас наука не объединит? Не объединит всех нас? Не поможет всему человечеству? — неподатливо закричал Улыбышев взвившимся тенорком. — Ересь! Ересь! Ересь! На что тогда надеяться? Во что верить? В дьявола? В манихейство?
«Нет, мальчик не переспорит, у него не хватит разрушительных аргументов Николая», — подумал Дроздов, подходя к ним, услышал его охлаждающий голос:
— А на что надеешься ты, вьюнош? И за что ты борешься — за лучшую жизнь или за выживание?
— Я? Я за что? Да?
— Да. Выживает, хороший мой, сильнейший. И тот, кто влюблен в самую прелестную в мире куртизанку, имен у которой много — клевета, ложь, карьера. А ты слабенький, ты любишь архаическую правду… поэтому и обречен.
— Я гомо сапиенс, а не насекомое! Я ненавижу ложь!
— Ты гомо моралис. Очень точно. Но можно ли унасекомить всех нас, вместе взятых? Можно. Это делается десять тысяч лет — от начала истории. Одна лишь ненависть и боязнь голода связывает всех. Не добро, мальчик, не любовь, а страх и ненависть. Всех! — Он с усмешливым прищуром обвел рюмкой толпившихся в комнате гостей. — Человек — не бого-дьявол, как умилялись древние мудрецы, а дьявол в фальшивом обличье! Такова жизнь в конце двадцатого века, Яшенька. Привет, Игорь Мстиславович, где твоя рюмка? — сказал он подошедшему Дроздову и помахал бутылкой. — В моих руках трофей, унесенный со стола. По опыту знаю — через полчаса в бутылках будет своеобразный вакуум.