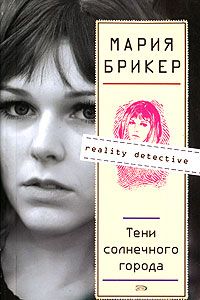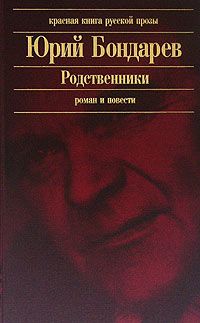Юрий Бондарев - Искушение
— Только не забивайте памороки своими волками! Все, знаете ли, зависит от самих людей! Сеять надо зерна добра, каждый день сеять неустанно!
— Дорогой сеятель! Хотел бы я знать, как вы это ежедневно делаете. Научите, пойду в подмастерья.
— Знаете, Тарутин, вы не добрый, вы — демон!
— Согласен, так как знаю, что зерна могут не стать колосьями!
— Надо просить прощения у наших детей за то, что мы произвели их на свет и предали. В общем — они сироты.
— Самое главное — замедлить время в себе. Египетские пирамиды — на кой шут они?
— В каждом из нас три энергии: Иисус, дьявол и конформист. Ясно?
— Вся прожитая жизнь оказалась длительной пыткой перед смертной казнью. Я стал неудобен своим детям.
— Я не о том.
— А я о том. Я не понимаю детей, дети — меня.
— Семейная жизнь требует компромиссов, иначе все полетит вверх тормашками! Кто-то сейчас говорил об искушении… Чем? Брачной постелью? Это ведь ловушка.
— Вот вы все об искушении… А я думаю о Теллере, об этом отце водородной бомбы… И о другом атомщике — Оппенгеймере.
— И что?
— Оппенгеймер поддался искушению и дал согласие на бомбежку Хиросимы. А потом сожалел об этом. Во время маккартизма, «охоты за ведьмами», Теллер преследовал его. Ученый пал жертвой ученого. Вот она — интеллигенция, совесть нации, рыцари духа! Интеллигенция от науки вызывает у меня тошноту.
— Не вся, не вся, не так мрачно, не сгущай, знаешь ли! Не обостряй! Ты сам от науки!
— А я не сгущаю, я просто не забываю факты — и тошно… Вспомним «третий рейх». Тридцать восемь процентов интеллигенции было в правительстве.
— И никто не знал, кто прав и кто виноват?
— Хаос — это порядок наизнанку. Мы не так далеко ушли от рептилий.
— И все-таки: берегись коня сзади, барана спереди, а дурака со всех сторон.
— Хотите сказать, что трудно быть в России умным и талантливым? И легко быть дураком?
— Я устал, сдали нервы, и вся моя жизнь стала компромиссом.
— Приезжал этот Милан из Чехословакии и сказал: меня выбросили из партии в шестьдесят восьмом году за то, что ходил возле советских танкистов и убеждал их, чтобы они не стреляли. В Праге было убито восемьдесят человек.
— Не верь им, иностранцам, ни в чем не верь! Не верь лицемерам!
— Недавние жертвы становятся палачами. Палач палача видит издалека.
— Я помню в Амстердаме или Копенгагене рекламу порнофильма: мужчина заламывал назад голову кричащей женщине, а худенький мальчик в белых трусиках вожделенно вонзался зубами ей в грудь… Ошалели!
— Правду о состоянии наших рек надо впрыскивать вместе с клизмой от запора всем больным ложью.
— Вы врач?
— Я — гидролог. Но хорошо знаю запорщиков в министерствах.
— У нас, разумеется, работать никто не хочет. И никто не хочет ни за что отвечать.
— И все-таки кто-то работает, и мы существуем. Едим хлеб, ходим в штанах, ездим в метро.
— Один с сошкой, миллионы с ложкой.
— Да-а. Пятнадцать литров на человека в год одной водки, дикость! Кретинизм! Спаивают, что ли, народ?
— Истина превыше всего. Имен-но! Хотя нередко она своей неудобностью раздражает, как лошадь в трамвае.
— Что за лошадь? В каком трамвае? Когда?
— Вы безукоризненный в правдолюбстве человек! Гений! Будете спорить?
— Благодарю вас. Не буду.
— Может быть, церковь виновата, что боги умерли? Священнослужители виноваты, а?
— Ты слишком много значения придаешь недосказанным истинам, поэтому злишься.
— Я хочу сказать, что в нашей науке полно ослов. Живем в придуманном мире парадов, мумий и манекенов.
— Таланты? У нас в науке все талантливые! Наоборот — надо всех поставить в одинаково равное положение. Талант — это возвышение, высокомерие, индивидуализм! Это противоречит нашему образу жизни? Ась?
— Он очень пьян?
— Не очень.
— И устроил взбрык и свалку, как всегда. Надо знать Тарутина.
— Его мизантропия обращена к нам. Он ненавидит и презирает все и вся. Дайте ему власть в руки, и он нас всех…
— Вы плохо держите позу доктора наук.
— Увольте, неспособен.
— Все просьбы — архаизм. Следует требовать, стучать кулаком по столу!
— Чувствительный привет! Стучите себя в лобик, авось услышите эхо.
— Титулованные посредственности! Звание академика — пожизненно. Смешно!
— Небо такая же тайна, как тайна смерти? Понавыдумали черт-те что! Пытаются познать космос, в то время как не познали самих себя на земле. Ведь нельзя математически объяснить даже чувство лягушки! Ничего не получится. Нет тут математических ожиданий!
— И ты не веришь в людей?
— У меня нет точного ответа. Идиотизм человеческий не знает ни границ, ни нормы. Если бы Павлов жил в наши дни, то вряд ли бы он стал великим ученым. Его уничтожили бы завистники.
— Летчики говорят: тормози в конце полосы, не оставляй любовь на старость, водку на утро.
— Высшее начальство не любит печальных истин. Кто из нас решится сказать, что наш проект в Чилиме — преступление, гибель тысяч гектаров ценнейшего леса и плодородных земель?
— Вэвэ, вы не скажете это министру.
— Я скажу.
— Владимир Владимирович, вы не скажете.
— Я скажу, что самое страшное не сумасшествие, а когда сумасшедший бегает с бритвой. Это — мы.
— Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан!
— Кандидат географических наук Иван Иваныч после экспедиции у каждого поезда из Перми стоит и каждого ребенка по голове гладит.
— Хо-хо, молодец, крепкий мужик! Весь Урал ножками исходил, все облазил, все общупал. Талант и донжуан.
— О, Русь, Русь! Грустно это…
— Вот так. Торопливая, грубая, неумелая хирургическая операция была сделана Петром Первым над Россией. Такой мужик сейчас, как Иван Иваныч, редкость. А население увеличивать надо.
— Спрашиваю у одного уголовника на Ангаре: как в тюрьме-то было? Отвечает: «А если б и плохо было, то все лучшие места русаки не заняли бы». Националист! Почему не смеетесь?
— Не смешно. Откуда эта непобедимая бессмыслица?
— Был у нас отец великий, светлоусый, светлоликий, тот отец в конце концов нас оставил без отцов. Слышали такие стихи?
— Вы что — сталинец? Вы не против ли двадцатого съезда? Не знал, не знал! Вы что — по прежнему чтите этого сатрапа и удава? Вы что — против демократизации?
— Зачем такой пыл? Я отношу свое поколение к «последним из могикан». Для нас Сталин многое значил. Что касается нашей демократизации, то боюсь, что она давно перешла в американизацию. Пепси, жевательная резинка, моды, поп-музыка, этот рок. Разрушенная, европеизированная, американизированная Москва — не русский город, а некий Чикаго или парижский район Сен-Дени на востоке Европы. Почти ничего русского в архитектуре. В языке, кроме родного мата в трамваях, мусор англицизмов и германизмов. Мы уже космополиты.
— Вмешаюсь в ваш разговор. Есть такой Айзек Азимов, американский писатель, настругал триста книг. Ай да молодец! Ай да энергия! Феномен! И что он в интервью заявляет: «Для меня творчество — это радость, не составляющая труда». Каково! Флобер! Представляете, что за стиль у этого графомана!
— Знаете? У двери глухого пел немой, а слепой на него смотрел с хитрецой.
— Что сие значит?
— Все мы произошли из одного корня — и человек, и обезьяна, и птица, и рыба, и крыса. Наша колыбель — природа. Но как все родилось, произошло, развивалось, менялось, совершенствовалось? Как американец стал американцем, а русский русским?
— Мы не знаем, почему человек чихает, а вы хотите это…
— Так что? Ха-ха! Что дала наша наука миру?
— Пожалуйста. Готовность ко всякому повороту судьбы. Так кто же будет теперь господствовать над нами — Чернышов или Дроздов?
Глава десятая
Кивая знакомым, здороваясь глазами, он шел сквозь хаотично перемешанные голоса гостей, заполнявших большую квартиру Чернышова, останавливался, смотрел по сторонам, отыскивая Валерию, чтобы «пообщаться» с ней и надолго не вступать в другие разговоры, обдающие его то теплыми, то холодными, то колючими волнами. Фраза, услышанная им и почему-то повторенная про себя: «готовность ко всякому повороту судьбы», заставила его насторожиться невольно.
Его все-таки занимала начатая кулуарная суета вокруг освобожденной должности директора НИИ, заметное волнение коллег, связанное с банальной мудростью: свято место пусто не бывает. На это место претендовал Чернышов. Но Дроздова занимало уже совершившееся в кулуарах института и собственное назначение, будто бы подтвержденное в «Большом доме» и академии, занимало перемывание коллегами косточек, подробный разбор служебных достоинств (талант или видимость?), личных характерных качеств (тигр или кошка?), частной жизни (пьет, не пьет, ходок, не ходок?), то есть небеспристрастный учет всего, что в подобных случаях дает пищу разнокалиберным слухам, сплетням, сочувствию доброжелателей и неизбежному злословию недругов. Дроздов, внешне не проявляя даже иронического интереса к пересудам и преувеличениям, знал и то, что в коридорах трепали его биографию, опять все соединяя с покойной Юлией, с его женитьбой, якобы выгодной, рассчитанной на удобную жизнь, на обеспеченную карьеру с помощью тестя. Эти шепоты бессмысленно было опровергать, так как он не сомневался, что всякая клевета или осмысленная недоброжелательность не признает доказательств, какими бы ни были они.