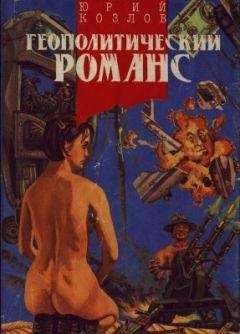Генрих Бёлль - Ангел молчал
Фишер вертел сигару и предавался воспоминаниям. Он рассматривал их, как рассматривают фотографии чужой и тоскливой жизни. Они заполняли бесконечные пустоты — целый ящик картинок, не имевших к нему никакого отношения, но на которые он тем не менее был обязан смотреть. Перед ним разворачивалась бесконечная череда долгих вечеров, заполненных ощущением тяжести в желудке и бренчанием на рояле начинающей пианистки, обреченной вечно барахтаться на уровне посредственности.
И только мысль о жене и вызванная ею ненависть на несколько минут будоражила его воображение и оживляла, но только на несколько минут, ибо и к ней он испытывал жалость, к этой красавице с профилем итальянской княгини…
Скука, отвращение и совсем немного радости: легкий зуд в пальцах, вызываемый пачкой банкнот. О чем бы он ни вспоминал, скука всегда оказывалась основой его душевных состояний, она главенствовала во всем, в то время как ее примеси: удовольствие, пресыщенность, отвращение, жалость — становились несущественными под гнетом ее свинцовой тяжести…
На миг ему вспомнилась Мадонна, но одновременно с ней в памяти всплыло и слово «эмбрион» — слово, которое распугало все остальные и одно засело в мозгу: уродливое, вызывающее не скуку или пресыщенность, а страх. Оно казалось ему каким-то тайным знаком, шифром, заимствованным из чужого языка и используемым, чтобы передать целый комплекс понятий, столь же таинственных, сколь и омерзительных, — это была словно стенограмма ужаса, который охватывал бы его и не отпускал всякий раз, как он вспомнит о Мадонне — о любой или именно этой. Мадонна будет в его восприятии навечно связана с эмбрионом — прекрасное слово с отвратительным, словно зеркальные отражения друг друга…
Ему пришло в голову, что надо приготовить полторы тысячи марок, и он поднялся с кресла. Отперев сейф, он оставил тяжелую дверцу открытой и вытащил из пачек десять банкнот по пятьдесят марок, двадцать пять — по двадцать и пятьдесят по десять…
Потом вернулся к письменному столу, положил деньги в один из ящиков и, когда его запирал, обратил внимание на то, что деньги — вопреки известной пословице — все-таки пахнут. Причем довольно сильно, он чувствовал этот запах каждый раз, когда открывал сейф: сладковатая слабая марь, смесь приторности и гнили, безликая и разносторонняя, слабая и поразительно въедливая. Когда он открывал дверцу, на него всегда выплывало густое сладковатое облако запахов — та смесь приторности и гнили, которая связывалась у него с понятием «бордель». Но тут он догадался, что то был запах крови — почти выдохшийся и облагороженный…
Он ощутил некоторое облегчение, когда вспомнил о невестке: ее имя, весь ее облик вызвали в нем волну странной нежности, хотя он сам не понимал и не мог объяснить, с чего бы это вдруг. Но факт остается фактом: он исполнился слегка ироничной веселостью, хотя и был зол на нее из-за того, что она разгадала и его последнюю тайну с такой же легкостью, как бы играючи, с какой она всегда обо всем догадывалась…
Во всяком случае, он счел достаточно оригинальным тот факт, что она перевернула с ног на голову требование момента: вместо того чтобы вкладывать деньги в вещи, она превращала вещи в деньги и раздавала их. Она продавала семейные драгоценности, извлекала деньги из доходных домов, снимала их со счетов, сбывала картины и мебель на черном рынке и занималась новым видом гуманитарного спорта, раздавая талоны на хлеб.
Эта истеричная манера казалась ему смехотворной, но в то же время Элизабет импонировала ему независимостью жизненной позиции, к тому же обладавшей чертами подлинной оригинальности: невестка была упряма, и в глубине души он был рад, что она объявила войну и ему, и свекру…
Она сказала: «Перемирие»…
Дело приняло бы опасный оборот, если б ей удалось разыскать того солдата, который доставил завещание Вилли: тело Вилли можно было бы эксгумировать, идентифицировать, и в ту же минуту, когда его смерть будет официально подтверждена, завещание Вилли будет иметь законную силу, покуда не докажешь, что печать воинской части или фамилия офицера фальшивые…
Он постучал авторучкой по стеклянному абажуру настольной лампы, чтобы вызвать секретаря, и, когда бледный и смиренный юноша появился в дверях, приветливо сказал ему:
— Извините меня, Виндек, я просто был погружен в свои мысли. На самом деле я конечно же рад, что выходит в свет первый номер «Агнца Божьего», результат наших совместных усилий. Не думайте, что я недооцениваю ваши заслуги. Не хотите ли сигару?
Секретарь обрадованно улыбнулся, взял сигару из придвинутого к нему ящичка и тихо промолвил:
— Спасибо, господин доктор…
— Возьмите еще одну…
Тот взял еще одну.
— Кстати, сейчас придет женщина, которая дала свою кровь моей дочери. Вручите ей по справке из больницы эти деньги — здесь полторы тысячи марок — и возьмите расписку в получении…
— Слушаюсь, — ответствовал секретарь.
Он уже не увидел, что его хозяин отложил горящую сигару и подпер голову ладонями…
XIII
Высокая серая боковая стена церкви была взорвана посередине, и между двумя опорами зияла широкая и высокая дыра, сквозь которую светло-серый дневной свет проходил внутрь, как сквозь огромные ворота. Словно после взрыва скалы внизу валялись громадные глыбы камня. Вокруг высились кучи щебня, но ближе к входу Ганс обнаружил следы расчистки завала и зашагал туда между кучами по гладким белым изразцовым плиткам. Толкнув дощатую дверь, ведшую в пустоту, он испугался: грубо сколоченная дверь была лишь прислонена к проему в стене. От его прикосновения она повернулась и упала на него. Он с трудом ее подхватил и опять прислонил к стене. Внутри развалин было тихо, по бывшему нефу церкви летали птицы — он услышал их щебет. Откуда-то донесся писк птенцов, и взгляд его тотчас упал на выщербленную люстру, все еще висевшую на цепи, укрепленной в толще свода. Цепь эта раскачивалась, тихонько поскрипывая, и он увидел двух жирных воробьев, прыгавших по металлическому ободу. Они вспорхнули, когда он двинулся дальше вглубь. От щебня было расчищено лишь небольшое пространство возле двери, а дальше ему пришлось карабкаться по глыбам камня, и когда он добрался до центрального нефа и взглянул вверх, то увидел, что из огромной трещины в боковой стене свет падает прямо на то, что осталось от фигур святых: все они свалились вниз, их пьедесталы либо совсем опустели, либо на них уцелели лишь уродливые и вжатые в стену обрубки: где две ноги до колен, а где одинокая рука без кисти, прочно прикрепленная к своду. Широкая черная зубчатая трещина с самого верха донизу четко вырисовывалась на стене, словно тень какой-то лестницы. Наверху, в сводчатом потолке, небо виделось как резко очерченный зубцами клочок чего-то серого, и тут он заметил вторую глубокую трещину, доходившую, постепенно сужаясь, до огромного пролома в боковой стене, наполненного светом дня. У пролома трещина опять расширялась, и он мог точно определить толщину стены, которая увеличивалась начиная от свода и достигала у земли ширины обычной двери. Но взгляд его не мог оторваться от зрелища, открывавшегося внизу: алтарь был завален щебнем, ряды лавок на хорах перевернуты взрывной волной, широкие темно-бурые задние стены наклонены, словно в издевательской молитвенной позе. Нижнему ряду святых на колоннах тоже был причинен заметный ущерб: исцарапанные и искромсанные каменные торсы, уродливые в своем увечье и искаженные от боли, словно некогда живые. Ему бросилось в глаза их дьявольское уродство — некоторые лица ухмылялись, как обезумевшие, потому что у них не хватало одного уха или же подбородка или потому что лица их искажали трещины. Некоторые изваяния лишились головы, и каменные шеи жутко и одиноко торчали над туловищами. Ужасающий вид имели и те статуи, у которых не было рук, — чудилось, будто они истекают кровью, молча взывая о помощи, а одна барочная гипсовая фигура раскололась так странно, словно имела лишь твердую оболочку, как яйцо: бледное лицо святого уцелело — узкое печальное лицо иезуита, — но грудь и живот были разодраны, гипс раскрошился и валялся белыми песчинками у ступней фигуры, а из темной дыры живота торчала солома вперемешку с затвердевшим гипсом.
Он пробирался дальше, мимо скамьи для причастия, в левую из двух апсид. Фрески уцелели и были хорошо освещены дневным светом. Удивительно блеклые и в то же время сияющие краски одной старинной фрески изображали поклонение трех царей. Сияющие, даже несмотря на блеклость, краски, местами лишь слегка подкрашенный рисунок… В целом фреска произвела на него отрадное впечатление, потому что осталась цела. Боковой алтарь рядом тоже был цел и даже как будто прибран: алтарная доска блестела чистотой, а перед каменной дароносицей стоял букет цветов. Когда он осмотрелся и заглянул в боковой придел, то увидел, что темные исповедальни были слегка наклонены вперед, их грубо сколоченные ящики покрыты пылью и кусками штукатурки, а вдалеке, в конце ряда низких колонн, он увидел горящую свечу, которую раньше не заметил, и пошел к ней. Свеча горела перед статуей Богоматери, а рядом с ней висело большое деревянное распятие, которое раньше свешивалось со свода перед люстрой…