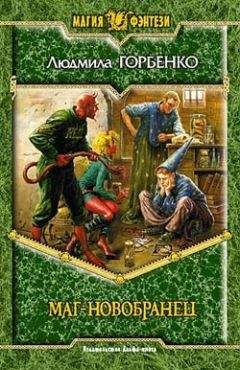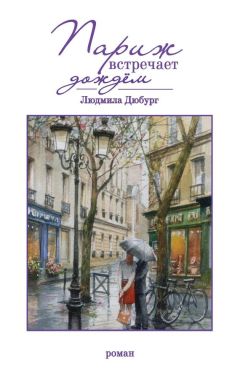Людмила Пятигорская - Блестящее одиночество
С треском разверзлась зеркальная дверь лягушиного штаба. На тротуар посыпались стекла, а следом за ними, будто поддали под зад коленкой, вылетел Восковой. Он встал, отряхнулся, подергал шеей и поправил съехавший набок галстук, который надел, учитывая важность момента. «А-а-а, Пиздодуев, — сказал бывший пахан. — Что же вы от меня бегаете?» В руке он крепко сжимал американский кольт тридцать восьмого калибра. Мирон Миронович ахнул и схватился за ляжку. Кольта в кармане не было. «Пхостите, Степан, я кхетин, — шепнул Сыркин. — Я совехшенно забыл, что они еще и вохуют».
Хотя, говорят, и дослужился Восковой до чина полковника во внутренних лягушачьих силах, но человек он был невоенный и дела с оружием не имел. «Ты, империалистическая ищейка, — сказал он, обращаясь к Мирону Мироновичу и разглядывая кольт. — Ствол у тебя странный, не нашего образца. Как палить из него? Как обычно, по-нашему?» — «Что вы, — замахал Сыркин руками. — Как хаз напхотив. Пехво-напехво надо пховерить, пходуть, посмотхеть в это отвехстие». — «Ну… — Восковой раз-другой дунул, приставил глаз к дулу, заглянул в сжатую кольцом темноту, в горло самой смерти, — …ну… проверил. Что дальше?» — «А дальше…» В этот момент из штаба целой гурьбой высыпали лягушатники. Они срочно эвакуировались, прихватив с собой фикусы и жоподержатели. Захрустели по битым стеклам, а один, какой-то Ушастый, то ли нарочно, то ли случайно пихнул пахана в зад своей кадкой, которую с трудом пер. Пахан покачнулся, раскорячился, как жаба, для равновесия и — тут меткий плевок Степана оказался не без значения — поехал на кожаной тонкой подметке, меля воздух руками. Кольт несколько раз выстрелил. А дальше все было как в скверном кино. Пахана сначала подбросило, а потом он стал медленно падать, плавно размахивая конечностями, точно аквалангист в ластах, уходящий на дно. Ёп — и он плюхнулся на панель. Из-под затылка сочился воск, растекаясь дорожками по асфальту. «Это ничего, это от температуры, это пройдет», — бормотал Восковой, судорожно залепляя горячую рану, но вынужден был прерваться, так как у него потекли кончики пальцев.
И вот тогда во всей ослепительной мощи взошло солнце. Оно распростерло лучи, как крылья. Лучи заструились по закуткам, взрываясь золотым пламенем. И не было на всем земном шаре такого места, куда бы не добежали желтые огонечки. Лужа, в которой лежал Восковой, угрожающе увеличивалась. «Комрады, братья! Эй! Помогите! Ведь я из вашего подсобного личинария! Вместе баланду в столовой кушали! От перегноя вместе питались!..» — и бывший пахан, продолжая перечислять, протянул к братанам молящую руку, с которой срывались одна за другой восковые слезинки. Но они его не услышали, так как их волшебная сила была не в этом. И только Ушастый отставил в сторону кадку, низко склонился над умирающим и внятно, отчеканивая словечки, проговорил: «С сего дня тамбовский волк тебе брат и товарищ».
В это время Степан и Мирон Миронович были уже далеко. Они не стали дожидаться развязки истории. Тимоти поднял свой кольт и сунул в карман. «Лана для него не смертельная, — сказал О’Хара. — Но не стоит задерживаться. Скохо пригреет солнце, и тогда… вы разумеете, Степан, что тогда нам, из одного сраного гуманизма, придется этого товарища реанимировать…» И они затопали восвояси.
ТайнаГоворят, что книги Пиздодуева, если когда и были, все сгорели дотла. Это был случай беспричинного возгорания. Любопытно, что в квартире Степана — где огонь истерически зашелся на книгах в прихожей, а затем перекинулся на стопки книг в комнатах — не загорелись ни тюлевые занавески, ни обитый плюшем диван, и только немного, присыпанный пеплом, дымился в гостиной ковер. Говорят, что, возможно, книги уничтожил сам автор, который, кстати, исчез тогда из Москвы. Ходили слухи, что он поджег и себя. И похоронен в безымянной могиле на кладбище с высокой кирпичной стеной, что отделяет живых от все еще мертвых.
Но были люди, что утверждали, будто видели Пиздодуева где-то в Швейцарии с пожилым господином в тройке и бабочке. И будто те сидели в кофейне, и стареющий господин рассуждал о свойствах поэзии, а Пиздодуев смеялся и говорил, что вся «ваша» поэзия — и уж кто-кто, а он это доподлинно знает — яйца выеденного не стоит. Господин выходил из себя, негодовал и кричал: «Степан, вы игнохант и невежда. С вами нельзя хассуждать о сехьезных вещах сехьезно. Я вот вам завтха пхинесу пхочитать мой тхактат о поэзии, котохый я сочинил, вдохновленный стихами Хильке, о котохом вы вхяд ли слышали…» А Пиздодуев сидел себе нога на ногу и потягивал кофе из крошечного фарфорового наперстка, который нелепо смотрелся в его огромных медвежьих лапищах. А потом умерла его мать, и он уехал хоронить ее в Данетотово, и никогда больше к Тимоти не вернулся. А тот слал ему телеграммы, и все звал, звал обратно, и каждый день ходил на пристань встречать океанские пароходы. Хотя какие в Швейцарии пароходы? Сухопутная, говорят, держава. Впрочем, может, для Тимоти это было совершенно не важно, а может быть, это была совсем не Швейцария?
Он и Она жили долго и счастливо. А потом Она умерла. А Он остался. И продолжал любить Ее, хотя давно уже не было звезд и померкла луна. Когда же совсем стало невмоготу, Он воздел руки и слезно взмолился, и Ему, как всякому человеку, была дарована смерть.
Что же касается лягушатников, то те никуда не делись, но, потеряв ведомого, затерялись в толпе, временно рассеялись, что ли. Сидят по разным мелким учреждениям и терпеливо — о, вы не знаете, как они терпеливы! — и терпеливо ждут. Говорят, какой-то новый, из Перепончатых, появился уже на Москве и рыскает в поисках своего войска.
Если же вы спросите про восставший было народ — то есть: что же народ? — так это самая большая тайна и есть. И, коли быть до конца честной, ей-богу, положа руку на сердце, просто не знаю.
Глава вторая
НОЧНОЙ ВИЗИТ ПРИСТАВА
Она перевернула последнюю страницу, закрыла книжку и швырнула ее на пол. Опять поднялась пыль, затуманив всю комнату. Пыль — цена жизни. Не в смысле что жизнь ничего не стоит, а что расплачиваться приходится пылью. Кстати, у паука, пока наша героиня читала, родились паучата. Штук тридцать. Паучихи нигде не видно — вероятно, в бегах, эмансипированная, поэтому паук вскармливает паучат сам, как может. Он снует по пустой паутине, кидается из конца в конец, заламывая в отчаянии ноги. Но это всего лишь предположение — относительно паучат. Кто его знает, родились ли они? А если даже и родились, то еще слишком малы, чтобы быть отличимыми от пылинок, плавающих по комнате. Поэтому наша героиня лежит, боясь двинуться, чтобы малышей случайно не покалечить и чтобы отцу-пауку было кому наследство бесценное передать. Впрочем, смешно, зачем молодым старая засиженная паутина?
Так героиня думала, лежа на боку, на манер поздних полотен Рубенса, подложив руку под голову. Сон к ней не шел, и она обреченно вздохнула. Потянулась к тумбочке, взяла ручку, блокнот, перевернулась на спину и принялась писать:
ЗАПИСКИВ порядке особой милости мне позволили остаться при нем до конца. А пришли они за ним ровно в пять. Их было трое, один из них, видимо, главный, поднес запястье к глазам и так стоял, подрагивая коленями в такт секундной стрелке часов. «Ну вот и пора», — сказал он. И тогда двое бритоголовых, вцепившись в воротничок, сорвали рубашку с моего мужа и накинули на него балахон из холста, что выглядело комично, так как он, голый и беззащитный, стоял перед ними, подняв руки, будто сдаваясь. Эта ритуальная суета длилась долю секунды, но именно в силу последней стыдливой поспешности была нужна, просто необходима, так как свидетельствовала о начале конца; человек одним махом терял все «свойства» и «признаки», превращался в оболочку с жилами и костями, переходящую в их полное распоряжение. Из-за опухших ступней не удалось натянуть тапочки, и мой «бывший муж» так и отправился — босиком.
Двое цепко схватили его под локти; третий держался чуть позади, поодаль. «Оставьте, я сам», — сказал им ведомый, и они тут же отстали. Коридор был серый и длинный, длиною в бетонное здание, с бетонным же, вместо пола, покрытием и высоченным недосягаемым потолком с тусклыми лампами в металлических переплетах.
Я же бежала за ними и, как в дурном сне, никак не могла их догнать; третий, не оборачиваясь, сделал мне знак рукой, чтобы я держалась на расстоянии.
Мой бывший муж заговорил о меню своего вечернего — хотя в силу некоторых обстоятельств — скорее ночного ужина, но сопровождавшие его молчали.