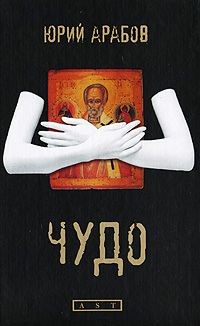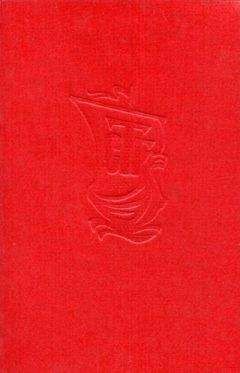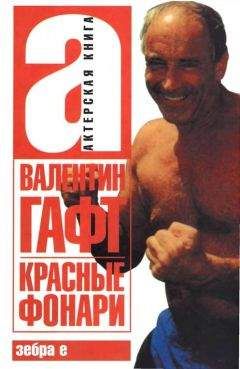Юрий Арабов - Чудо
Он не брал себе псевдонима, хотя трудился в недрах партии, всегда маскирующейся под чужое. И это чужое должно быть грозным и упреждающе-твердокаменным: Молотов, Каменев, Сталин... От одних только имен летели искры. Звон металла и нечеловеческая твердость сопровождали поступь партии и ее доктрины по стране-растению, по России, которую они намеревались превратить из растения в отлаженный железный механизм. Правда, вслед за этими псевдонимами, выражавшими что угодно, но только не самих людей, плелись псевдонимы попреснее и совсем уже без внятного вкуса, например, Землячка. Что думала эта черноглазая вертлявая женщина, когда брала себе «Землячку», что она землячка всех людей на свете? Хрущев, кстати, против этого не возражал, а Сталина всего перекашивало: какая она землячка, кому? От злости на нее и на остальных таких же он предложил однажды Землячку в жены Ленину при том, что Основатель уже был к тому времени женат.
Но сам Ильич пошел дальше всех – взял себе такой псевдоним, с которым пришлось попотеть впоследствии историкам, тому же Ярославскому, что Ярославль помнил смутно и один раз даже сказал кому-то, что город этот находится в Алтайском крае.
Историки выдумали и вдолбили молодежи, будто псевдоним Основателя происходил от Ленского расстрела, хотя это была явная неправда. Некоторую ясность в запутанный вопрос ленинианы внес умирающий Горький. Он показал Демьяну Бедному (какой он бедный? издеваетесь, что ли?) фотографию Ильича за шахматами на Капри, где Основатель широко открыл рот, романтически-сладко зевая. По сведениям Горького, Ильич взял себе псевдоним от лени – якобы этот внешне очень энергичный человек был на самом деле чудовищно ленив. В это Хрущев верил с трудом. Как ленивец, поставивший Лень своим вторым именем, мог перевернуть Землю? Сие казалось ему диким и невозможным.
Однажды Сталин спросил: «Товарищ Микита, а что значит твоя фамилия?» Хрущев взглянул на него в упор, хотя вождь этого очень не любил, и нашел в кавказских глазах разлитое черное масло – поднеси спичку и вспыхнет... «Она значит хруща, Иосиф Виссарионович!» «А что значит хрущ, товарищ Микита?» «Это значит по-русски майский жук, Иосиф Виссарионович!..» «Возьмешь себе псевдоним, – распорядился Сталин. – Будешь теперь Жуковым». Задумался и добавил: «Нет, не будешь. Один Жуков у нас уже есть».
Хрущеву повезло. Он остался при своем собственном имени. И хоть часто приходилось мараться, выкручиваться и лгать, настоящая фамилия вела его извилистым путем на весеннюю поляну, в круг молодых березок с народившимся клевером под ногами, где резвились майские жуки в нежно-зеленых верхушках, тяжело жужжа по ночам и падая сверху от одуряющего сна, когда наступит день... Именно весной 53-го он получит в свои руки необъятную власть. И всю его последующую деятельность назовут весною, точнее, оттепелью. И полетит этот толстый жук куда глаза глядят и всю страну за собой утащит, чтобы впоследствии страна, обалдевшая от весеннего полета, назвала этого жука вредителем посевов и противником зеленых насаждений. А они ведь вредят, эти майские жуки, это скажет вам любой крестьянин, ох, как вредят!..
Хрущева тошнило от полета. Солено-кислая морская волна подкатывала из глубины живота к горлу и застревала где-то на уровне неба, приходилось глотать скопившуюся слюну, и на какое-то время тошнота замирала, чтобы через несколько минут подняться снова и затопить все.
Моторы равнодушно гудели. Он тупо смотрел на трепыхающуюся перед ним рюмку, уже разлитую почти полностью, на разложенные документы, и вдруг понял, что сейчас заблюет их, испортит, уничтожит и выступит перед Свердловским обкомом неподготовленным, импровизируя, шутя, угрожая и скрывая за шутками тот факт, что не ознакомился вовремя с цифрами, рапортами, распоряжениями и доносами.
– А чего читать, – спросил он сам себя, – если там одни сталинисты?
Расстегнул ворот украинской рубахи, которая сдавливала мясистую потную шею.
Недавно в голову ему пришла вполне весенняя идея – собрать в Москве молодежь всей Земли и показать ей преимущество социализь ма. Он говорил это привычное, даже родное слово с мягким знаком, чем вызывал хохот интеллигенции и затормозил этим на время ее любовь к себе. Но какое это преимущество, где оно лежит и с чем его едят, он никак не мог понять, и беспокойная нервная мысль упиралась в банальности – в Московский Кремль или в то, что в столице не было нищих. Но с последним обстояло более или менее просто – нищими были почти все, и на этом фоне выделялась, скорее, не нищета, а богатство. А Московский Кремль построил не Ленин, его построили цари и всякого рода сомнительный элемент, иностранцы и приспешники-клерикалы, так чего его показывать? Он хотел в самолете додумать этот вопрос, дожать, заточить, обстругать шелуху и отбросить лишнее, так нет, проклятая болтанка выбила его мысль из седла и заставила упасть к ногам в дорогих кожаных ботинках, сделанных по специальному заказу, но которые, тем не менее, натирали нещадно. Знал бы он, что главным итогом фестиваля в Москве, который состоится через год, будут родившиеся черные дети и обритые под ноль девицы (их ловили с иностранцами на кладбищах, потому что не было больше места для уединения, и тут же, на всякий случай, обривали), Хрущев бы не на шутку обеспокоился, и ему стало бы еще хуже. Но завтра – всегда неизвестность, как скажет лет через десять один знаменитый рокер. И оттого думать о завтрашнем дне – вполне безопасно.
Он оглянулся. Его помощник сидел в кресле позади с совершенно бледным лицом, приставив ко рту бумажный пакет. Глаза его были выпучены, на лбу появилась испарина.
– Скажи мне, Валериан Григорьевич, в чем же наконец преимущество социализь ма? – спросил Хрущев по возможности ровным голосом.
Валериан страдальчески посмотрел на своего неутомимого шефа. Даже сейчас, на пороге катастрофы он спрашивает про социализь м. Да что они, совсем безумные, что ли?.. Раньше Валериан Григорьевич работал в секретариате у Молотова, и тот все гундел: «Коммунизм, коммунизм, коммунизм...» Твердил глухим подземным голосом, как из чайника. Никита же как будто был реалистичнее и про коммунизм в основном помалкивал.
– Не бойся, Валериан Григорьевич, – сказал ему Хрущев. – Оставь пакет. Все равно сейчас упадем. – Тот, не улыбнувшись, привычно подчиняясь приказу, скомкал бумагу и положил ее куда-то под себя.
– Вы сами не знаете, что ли, в чем преимущество? – пробормотал он еле слышно.
– Не знаю. А ты мне объясни.
– Преимущество лишь одно. В том, что мы еще живы. Вопреки вероятности.
– Так, – согласился с ним Хрущев. – Хорошо. Тогда ответь, в чем преимущество капитализь ма?
– В легкой промышленности. Больше ни в чем.
– Ну, это мы догоним, – махнул рукой Никита. – И перегоним, если надо.
Морщась, он снял с ноги ботинок и задумчиво заглянул ему вовнутрь.
– Мы им нашу обувь экспортировать будем. Долго не протянут.
Через несколько лет в Америке он снимет тот же ботинок на заседании ООН и будет стучать им о стол. Родится легенда, что он сделал это в целях устрашения. Но это, конечно, не так. Хрущев снял ботинок из-за того, что он ему натирал, и только поэтому. Кто жил в России пятидесятых и позже, оценит справедливость моих слов: бывали такие ситуации, такие мозоли и такая щемящая боль, что ничего не оставалось, как снять с ноги обувь и запустить ею в первого встречного-поперечного...
Двигатели у самолета взревели, и он завалился на правый бок.
– Молитвы какие-нибудь знаешь? – спросил Никита у помощника.
Тот покачал головой.
– Неправильно живешь... Человек интеллигентного труда должен знать хотя бы одну молитву. Тем более коммунист... Я, впрочем, тоже давно позабыл... – Хрущев с тревогой уставился в незашторенный иллюминатор. – ...Что ж. Пойдем наверх без молитвы.
Он встал с кресла и, шатаясь, направился к кабине пилотов. Ему навстречу выскочила стюардесса, грудастая и русопятая, в обтягивающей юбке ниже колена и лицом добродетельной матроны, блудящей лишь ночью, а днем читающей «Работницу» или «Огонек». Бросилась наперерез с истошным визгом:
– Никита Сергеевич!.. Вернитесь на место!.. Вы убьетесь! Сейчас нельзя ходить!..
Но Первый секретарь отстранил ее властным движением и вошел в кабину пилотов.
– Что у вас, хлопцы-гаврики? – спросил он, по возможности весело, скрывая дрожь в ногах и в голосе.
– Свердловск не принимает, Никита Сергеевич, – сказал ему командир корабля. – Будем садиться на военный аэродром Чкалов-8.
– Сажай скорее, – махнул рукой Первый секретарь. – А далеко ли отсюда до Свердловска?
– Километров триста. Может, чуть меньше.
– Триста?.. Это и на электричке доехать можно...
Бормоча что-то себе под нос, Хрущев возвратился на место.