Меир Шалев - Фонтанелла
Это выражение она тоже взяла у него. Стоит кому-нибудь из нас купить что-нибудь новое — от ниток и шнурков до машины и пашмины, — как он тотчас спрашивает: «Это дорогое удовольствие?» Но на этот раз он не дал ей сбить себя с пути:
— Тебе что, нужны еще деньги? Почему ты мне не сказала?
— Нет, деньги я нахожу сама, между подушками дивана, там всегда валяется мелочь, выпавшая из кармана какого-нибудь задремавшего Йофе…
— Так что же это за работа у тебя, что девушке нужно работать ночью?
— Это бир-штубе. Пивной бар. Я работаю там по-за стойкой и слушаю разговоры выпивох.
На этот раз он услышал свое выражение и улыбнулся.
— По-за стойкой в бир-штубе? — Он похлопал ее по плечу. — Ты молодчина, Айелет, ты жеда[28]!
Берег изменился. Они уже не шли вдоль самой кромки воды. Тропа вилась теперь по серым известковым прибрежным утесам. Они никогда не бывали в этих краях, и мир вокруг, казалось им, постепенно пустел. Еще одна последняя одинокая мечеть, упершаяся в небо пальцем минарета, да развалины древней крепости крестоносцев поблизости, а дальше уже не видно никаких признаков жилья, ни старого, ни нового, — одни лишь изъеденные временем известковые скалы, которые изо всех сил старались выглядеть страшными, но на самом деле радовали глаз и удобно принимали ногу, да медленные колыхания зеленой воды в узких заливах, врезающихся в глубь берега, да мягкие, обманчивые песчаные холмы, то и дело меняющие форму и молча смеющиеся при этом, да бледные ящерицы, перебегающие от одного травяного укрытия к другому, — такие стремительные, что эти перебежки даже не улавливались глазом, а лишь слышались ушам, как скользнувший по земле шепот, и только оставляемые ими следы выдавали их существование.
Кое-где росли кусты — наклонившись, цепляясь за слабую почву. Ветер собрал и прижал маленькие песчаные бугорки к упорству тонких стволиков, покрытых крохотными густыми листочками. Отчаявшиеся виноградные лозы ползли по земле, не имея ни поддерживающих, ни направляющих веток. Деревца инжира, взошедшие из посеянных птицами косточек, были странными на вид, потому что приморские ветры вдавили их в землю, сделали низкими, почти карликовыми, а в то же время на ветках этих недоростков раскачивались неприлично большие и сладкие плоды, и от этого они были похожи на маленьких девочек, которые важно покачивают своими преждевременно созревшими грудями.
Амума положила голову на плечо мужа, и он сразу почувствовал, что она заснула, потому что стала тяжелее, а заснув еще глубже, начала бормотать и что-то напевать. Он не понял ее сонный язык, но сердце его расширилось, и легкие раздулись, и, несмотря на ее вес, не только его шаги, но и мысли стали шире и легче.
«И еще годы спустя, на протяжении всей их жизни и даже после Амуминой смерти, он всё время чувствовал ее на своей спине. Ее бедра вокруг своей талии, ее груди, прижатые к его плечам, как две печати».
— Вот так, Михаэль, — сказала Рахель и прижала к моей спине свою старую грудь. — И вот так, — и прижала еще одну такую же. — Вот так и вот так, пятак и пятак.
И дыхание ее он всегда чувствовал на своей шее, обжигающее его затылок.
— Вот так, Михаэль. — И Рахель приблизила рот к моему затылку и жарко выдохнула, прикалывая еще одного подростка к семейному каталогу.
— Вот так. Настолько, что он и сейчас это чувствует, даже после ее смерти. Потому что кожа запоминает жар и место, а также движение и давление водуха, как веревка помнит место, где на ней завязали узел, и как глаз видит красный цветок мака даже после того, как закрылся.
— Мне приятно вот так нести тебя, мама, — сказал Апупа. Он пытался выразить чувство, которое не мог выразить словами. Я помогу ему немного, потому что все Йофы, несмотря на их ссоры и свары, всегда помогают друг другу: он чувствовал себя, как моряк-первооткрыватель, который, куда бы ни плыл, несет свой маяк на собственных плечах.
* * *В восемь лет Апупа лишился матери. Полгода спустя какая-то женщина заявила, что беременна от его отца, и заставила того на себе жениться. Беременность оказалась вымышленной, но, видимо, кроме коварства, или, как произносят Йофы, «каварства», именуя этим то, что обычные люди называют житейским расчетом, у этой женщины были еще и какие-то достоинства, и их брак стал фактическим.
Мачеха ревновала Давида к отцу, как женщина ревнует мужчину к сопернице. Бить его она не могла, так как он был мальчик рослый и сильный и, в отличие от других сильных ребят, не решающихся применить свою силу — как я, например, — давал сдачи без колебаний. Поэтому она издевалась над ним, непрерывно осыпала его криками и бранью, поручала непосильные задания, а главное — кормила едой, которая становилась ему поперек горла.
Его отец, как я уже рассказывал, работал бондарем на винном заводе и хорошо зарабатывал там, но возвращался домой поздно, и маленький Давид целыми днями ходил по чужим виноградникам и садам, помогая работавшим там людям, а те взамен делились с ним едой.
Иногда он осмеливался даже постучать в двери какого-нибудь дома. Хозяйки в поселке уже знали его, жалели и порой угощали чем-нибудь вкусным или сладким <связать с его более поздней страстью к мороженому и «сладкому сладкому»>, но Апупа был мальчик гордый и упрямо стремился сам зарабатывать себе на хлеб. Поэтому они поручали ему какую-нибудь работу — чистку кормушек, сбор яиц во дворе, обдирку кукурузных початков или прополку сорняков, — и он всегда добросовестно ее выполнял.
К ночи он возвращался домой и спешил проскользнуть в свою кровать, держась подальше не только от мачехи, но и от отца, который не защищал сына от ее ненависти [которого злила отчужденность сына]. Когда пришли теплые дни, он начал спать в гамаке, который натянул себе возле забора, между двумя цитрусовыми деревьями, потом, на летние каникулы, нашел себе постоянную работу у одного из крестьян, а в десять лет, когда мачеха родила двух его полубратьев, совсем отбился от дома: спал по коровникам и конюшням и не возвращался больше домой.
В те дни произошло событие, которое золотыми буквами вписано в книгу наших семейных воспоминаний: в винограднике одного из хозяев маленький Апупа поймал вора. По сей день во время семейных сборищ Йофы говорят своим детям, указывая на нашего деда: «А вот он, когда был в вашем возрасте, поймал настоящего грабителя!» Дети посмеиваются, а наш Апупа улыбается им из своего инкубатора и приветливо машет огромной ладонью. Но мы, знавшие его до того, как он овдовел, состарился и усох до нынешних размеров, свято верим всем деталям этой истории: и времени суток, когда это произошло, — «ввечеру», и сорту винограда, о котором речь, — черно-ворованно-сладкий «гамбургский мускат», а главное — тому славному арабскому слову, той единственной «кости Кювье» этого эпизода, по которой я восстановлю его, если забуду: «хурж», грузовое седло, которое кладут на спину животного, чтобы с обеих сторон подвесить к нему две плетеные корзины — те самые, куда вор сложил свою добычу.
Итак: дело было «ввечеру», и Давид Йофе неожиданно выскочил прямо на вора, который складывал грозди «гамбургского муската» в «хурж» на спине своего осла. Вор не испугался и грубо отшвырнул мальчишку, который от удара покатился по земле. Давид, однако, тут же вскочил и молча бросился на противника, получил еще один удар, опять упал и лежа вцепился зубами в ногу вора. Отсюда и далее версии расходятся. Те, которые говорят, что Апупа нес Амуму на спине в течение всего Великого Похода, утверждают, что хозяин виноградника услышал страдальческие вопли, выбежал на шум и схватил грабителя. А те, которые утверждают, что Апупа нес Амуму, только когда она уставала, говорят, что вор успел скрыться, но через три дня вернулся сам, умоляя, чтобы от него оторвали «этого проклятого мальчишку», который намертво сомкнул челюсти на его ноге.
С тех пор слух о нем прошел по всему поселку, и всюду, куда бы он ни приходил, его кормили, и поили, и хвалили за героизм, давали ему одежду, работу и место для ночлега. Его отец понял свою ошибку, пришел к сыну и попросил [потребовал], чтобы тот вернулся домой. Но Апупа отказался, и отец, познавший йофианское упрямство на собственной шкуре, ушел со словами: «Дверь моего дома всегда открыта для тебя» [крикнул: «В таком случае не смей больше показываться у меня в доме!»]
Как бы то ни было, но с тех пор они редко встречались, хотя Апупа не таил зла на своего отца. Иногда, после захода солнца, он подходил к родному забору и долго стоял там, глядя на ворота, словно ожидал, что кто-то выйдет оттуда и позовет его домой. Но когда отец замечал его и спешил к нему со словами: «Иди домой, Давид…» — он поворачивался и исчезал в темноте.
Больше всего он тосковал по тем минутам, когда мать садилась на стул и говорила ему: «Подойди, Давид, положи голову сюда…» — и он подходил и клал голову ей на колени, а она гладила его по голове и хвалила за все, что он сделал.
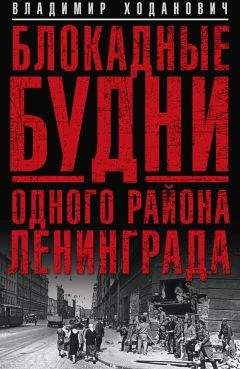

![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/uploads/posts/books/142120/142120.jpg)
