Меир Шалев - Фонтанелла
Цирк приехал тогда из Яффо и разбил в их поселке свой шатер, но показал всего лишь одно представление.
— Ну ангелочки, спросите дедушку — почему всего одно?
И мы с Габриэлем:
— Ну, Апупа, почему всего одно?
Потому что отец Апупы, который был «из силачей силач», еще сильнее своего сына, возмутился тем, что дрессировщик не сунул голову в львиную пасть, как это было обещано в афише, а потому выскочил на арену, грохнул несчастного араба об пол, так что размозжил ему колено, и, не ограничившись этим, со страшным рыком набросился на самого льва. Льва обуял такой страх, что он тут же распался на две половинки, которые бросились в разные стороны, потому что этот лев на самом деле состоял из «двух мошенников-цыган», только в львином наряде, с хвостом и гривой. Увидев это, отец Апупы — который, кстати говоря, работал бондарем на винодельном заводе барона Ротшильда — рассердился уже не на шутку, потому что у него еще оставалось в запасе много сил, а тратить их было теперь уже не на кого. Поэтому он схватил тот стальной прут, который цирковой силач за несколько минут до этого согнул двумя руками в кольцо, пальцами распрямил его, поклонился восторженной публике и ушел с арены.
Теперь тот курбач лежит в шкафу, вместе с платьями Батии и Амумы, а Апупа лежит в старом инкубаторе Габриэля — маленький, дрожащий от холода гномик с белой бородой и огромными ладонями, и порой, будучи в дурном настроении, Габриэль вынимает из шкафа одно из этих платьев и устраивает деду свое «представление». Любой другой мужчина, надень он женское платье, вызвал бы у Апупы отвращение («квас» на нашем семейном языке), — но не Габриэль. Поэтому Габриэль устраивает Апупе «представление», а Апупа улыбается ему из своего теплого инкубатора, который поначалу был приспособлен Женихом для выращивания обычных цыплят и потом переделан для согревания того цыпленка, которого Пнина-Красавица родила не ему и не от него. А сегодня тот же инкубатор согревает нашего деда, который от старости съежился, ссохся и уменьшился до вместимых размеров, хотя его куда труднее согреть, чем всех предыдущих обитателей, а переносить намного тяжелее.
Так он лежит себе там, и время, этот великий утешитель, качает его медленно-медленно — нянька сосунка — и напевает ему такую тихую колыбельную, что услышать ее могут только Йофы с открытой фонтанеллой. Всем остальным Йофам, не говоря уже об обычных людях, кажется, что время молчит.
[Но оно — нет, моя любимая, оно — нет.]
Итак: из всего того, «что-в-начале-любви», из всего того, «что-поддерживает-ее-всю-последующую-жизнь», ничто — ничто! — не может сравниться с «Великим Походом». И как обо всем прочем в истории нашей Семьи, я и об этом походе услышал от тети Рахели. В темноте, под пуховым надгробьем, во фланелевом саване ее погибшего Парня, закутанный в ее постельные подушечки и в ее старое, тряпичное тело, прижатое к моему с отчаянной силой, уже лишенной желания и надежды.
Когда Йофы говорят «Великий Поход», они имеют в виду то долгое странствие, в которое бабушка с дедом вышли многие годы назад и которое привело нас, Йофов Долины, на наше теперешнее место. Оно началось в тот день, когда молодой Давид Йофе поднял молодую Мириам Йофе к себе на спину, а кончилось здесь, в тот далекий день, когда он спустил ее со спины на этом низком пригорке, где со временем суждено было подняться «Двору Йофе», которому суждено было со временем оказаться в окружении деревни, которой суждено было вырасти и стать городом, которому суждено было окружить и взять в осаду этот Двор, как армия издольщиков окружает крепость своего феодала.
— Подумать только, — обернулся я к Габриэлю в одну из самых трудных минут «заключительного марш-броска», которым у десантников завершается курс молодого бойца, — подумать только: Апупа прошел куда больше нас, а на плечах у него была Амума, куда тяжелее наших трех ящиков с боеприпасами…
— Но и приятней этих трех ящиков, — сказал Габриэль и протянул длинную руку к моей заднице, чтобы поддержать и подтолкнуть меня на крутом подъеме. В военкомате мне удалось скрыть свою легкую астму, но Габриэль о ней знал.
«Многие странствовали тогда пешком, ходили по всей Стране» — бродили, высматривали место, чтобы пустить корень, спрашивали работу, искали покаяния, торговали вразнос идеями и пророчествами.
<Можно развить мысль Рахели: «Поскольку денег у них не было, их сионизм начинался с бартера, как в натуральном хозяйстве, — идея за идею».>
Страна, сегодня тесная и потная, расстилалась перед ними (а может, им так думалось) коленопреклоненная и благодарная. Такая любимая, что ее называли девственной. Такая девственная, что казалась им пустой. Такая пустая, что они считали ее огромной. Некоторые искали уединения и шли в одиночку, ругие нуждались в ближнем и шли вместе. Но Апупа и Амума ни в ком не нуждались и ничего не искали. «Они нашли друг друга, и их мир наполнился так, что любая добавка вызывала удушье. Так это у нас в Семье. А вернее, так это было у нас в Семье».
— Когда они шли, — рассказывала Рахель, — он нес ее на спине, а когда они останавливались отдохнуть, он стоял, а она сидела в его тени.
— Воистину идиллическая пара, — заметил я, и Рахель засмеялась своим невидимым в темноте смехом, щекотавшим мой затылок всегда в одном и том же месте. А потом сказала:
— Дед твой — человек простой. Кто-то, наверно, сказал ему, что жениться — это значит взвалить на себя супружеское бремя, вот он и понял это буквально: взвалил ее себе на спину и — давай, Давид! Вперед, в дорогу, йалла[27]!
Подробности этого похода вновь и вновь возвращаются к нам, как женщина, которая время от времени возвращается к былому любовнику — проверить, сохранил ли он еще силу увлечь и способность возобновить свои права на владение. И, как всякая изустная семейная история, эта тоже имеет несколько вариаций. Но во всех версиях Апупа и Амума вышли в свой поход наутро после свадьбы, и во всех они встретили по пути скрипача Гирша Ландау и жену его Сару отца и мать того будущего ребенка, который потом возьмет себе в жены красавицу Пнину и получит прозвище Жених. Но по версии Рахели Амума восседала на спине Апупы всю дорогу, а по версии Жениха — Апупа нес ее только тогда, когда она уставала.
Но, как я уже сказал, одна деталь этого похода не меняется от версии к версии, и это — момент его начала, потому что в каждом походе начало — главная его деталь, тот первый толчок или рывок, та замерзшая временная крупица [та точная молекула времени], что нерушимо стынет в янтаре всех рассказов, — момент, когда Давид Йофе протянул руку к Мириам Йофе и сказал ей те два слова, которые Рахель и я, Алона и ее подруги, Айелет и Ури и Габриэль с его «Священным отрядом» способны повторить и изобразить еще и сегодня: «На меня, на меня!»
— Дело было так, — начинает Рахель с йофианского зачина, который означает: «Все, что вы услышите отныне и далее, — святая правда».
Вдоль улицы тянулась низкая каменная стена. Он помог ей залезть и сесть на шершавый камень, потом повернулся к ней спиной и сделал шаг назад, а когда ощутил, что стоит к ней вплотную, сделал шаг вперед, и в этот момент каждый из нашей йофианской конюшни, каждый на своем месте, и в своих обстоятельствах, и в свое время, говорит своему наезднику: «На меня, на меня!» И Мириам, словно услышав всех нас, прыгнула со стены ему на спину. Ее руки охватили его шею, ее груди прижались к его лопаткам, ее бедра обняли его талию, ее смех сбегал вниз по его затылку. Наш Апупа всегда был одинаков, что в реальности, что в семейных воспоминаниях, но бабушка Амума всегда двоилась — та, которую знали мы с Габриэлем, была суровей и жестче той, что появлялась в рассказах, даже в ее собственных.
«Н-но!» — воскликнула она и вонзила пятки в его бока. Ни один дикий конь не был еще взнуздан и взят во владение с такой нежностью, любовью и решительностью. Он повернул голову назад, чтобы посмотреть ей в лицо, такое теплое, порозовевшее и близкое, слегка подбросил на спине, чтобы приподнять и упрочнить ее посадку, а затем, даже не обернувшись в сторону тех, что перешептывались и указывали пальцем за их плечами, пошел вниз по мягкому песчаному склону улицы, который вскоре сменился таким же мягким подъемом.
Быстрыми шагами шел он, слегка наклонив голову, а когда вышел из поселка, сцепил пальцы рук на животе, чтобы всаднице было еще прочнее сидеть, и принялся развлекать ее, то прыгая, как лошадь, то взбрыкивая, как осел, то притворяясь, что споткнулся и вот-вот упадет, чтобы она закричала в таком же притворном страхе, обняла его и засмеялась. А она то и дело приподымалась на его руках, как ребенок на плечах у отца, и на каждом перекрестке показывала пальцем: «Туда!»
Дорога шла, поднимаясь-опускаясь, по пескам и краснозему, между живыми изгородями сабр и стенами кипарисов, мимо молодых апельсиновых рощ и старых сикоморов. На каком-то поле на них напали пчелы, и Мириам испуганно закричала, но Давид выловил тех, что запутались в ее волосах, и строго им выговорил.
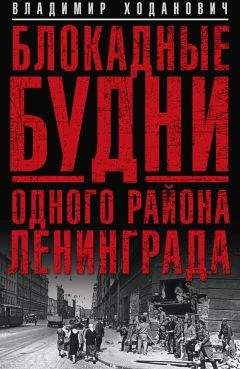

![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/uploads/posts/books/142120/142120.jpg)
