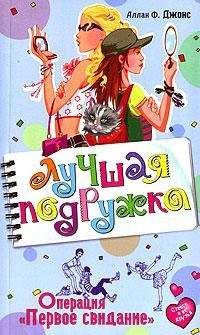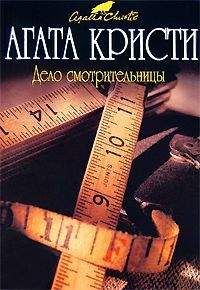Валерий Шелегов - Ухожу, расставаясь с тобой…
— Гармошка у меня с собой. Надвинул кепку на глаза, да и пошел по вагонам с песнями. В Красноярск полные карманы мятых рублей привез, — смеется Семен. Он и не скрывает, что гармошка его в студенческие годы кормила, помогла два факультета параллельно одновременно закончить. Хоть и имеет теперь собственный бизнес, нынешнее время терпеть не может.
— Романтики не стало! Мечты!
Особой любви между отцом и сыном я не замечал. Случается, выпьют вместе, взорвется Семен, да и выговорит отцу за детские свои и студенческие годы: мать кнутом гонял, деньги с базарной выручки пропивал, на одной картошке в мундирах семья сидела. Не корова — по миру бы пошли при таком папаше.
— Правильно, что гонял, — огрызается старый Супрун. К столу он никогда не садится во время застолья. Место его на сапожной табуреточке возле горячей духовки. — Кем бы вы сёдня стали с Парфеном, если бы я вас к труду не приучил, не гонял к работе, от которой вы бегом тикали. А сёдня, что? Работать на земле стало некому! За энту я жизнь воевал?!
Перебранка между младшим сыном и отцом в такие минуты серьезная. Старший Парфен проще Семена. Бывает он на усадьбе отца в деревне редко. Врач, работой загружен. Но случается, вместе братья наедут. Парфен текучий в движениях, в речах, свары семейной не любит, поэтому торопится налить в стопки:
— Фатит, фатит! Некогда! Надо выпить. Писателю тоже налей. Все-все, некогда. Писать о нас не надо. Пей молча, она сама заговорит. Пей и не разговаривай. Семён, тащи гармошку.
Хранится гармошка в старинном шифоньере в кладовке. Семён прячет её от отцовских собутыльников.
— Она, кормилица! Студенческая еще, — засмеётся на мой удивленный пытливый взгляд. — Ну что, брат, споем!
— Давай нашу…
Ох, ты синее небо России!
Ухожу, расставаясь с тобой.
А березки, как девки босые,
На прощание машут рукой…
— братья поют ладно, сильно и с чувством.
Потом исполняется для отца -
Я был батальонный разведчик,
А он писаришка штабной.
Я был за Россию ответчик,
А он спал с моею женой,
— И опять резкий переход с ревом в голосе Семена: —
Бегут весенние ручьи.
И солнце в них купает ноги,
А мы куда-то все спешим,
Но проклянем свои дороги…
— Выхрипев душевный надрыв, Семен ставит гармошку на широкий стол.
— А, давай еще выпьем. И хде ты такие берешь, брат, даже в моих магазинах такого коньяка не найдешь. — Изучает бутылку Семен, вынутую из «докторского» портфеля братом.
— Открывай, некогда. Што мои больные пациенты пьют, то и мне несут…
Братья никогда не ночуют в доме, в котором родились и выросли. Слишком мрачным и безрадостным запомнилось им детство. Поздно ночью они уезжают в город.
Славная выдалась суббота. Солнце в светлых небесах по-летнему горячее, правда, ветерок от реки до костей пронизывает. Утром я затопил баню, в обед решил помыть деда, попариться сам, а вечерним автобусом отъехать домой в Канск. Мои две недели подошли к концу.
Толкусь в ограде. Старый Супрун в окно кухни за мной наблюдает. Я вырвал полынь и лебеду вокруг бани и у дорожек, снес её на базы, где раньше хозяева копили из-под скотины навоз. Сел на завалинку возле бани на солнцепеке, помахал Супруну, приглашая выйти из дома и погреться на последнем летнем солнышке. Супрун обул калоши, надел фуфайку и шапку, выбрался в ограду. Присел рядом со мной, сложил тряские руки на коленях. Подставил бритое утром лицо теплу солнышка.
— Ты залезь на крышу, трубу-то поправь. А то уедешь, зимой ее совсем ветрищем свалит. — Попросил он меня ласково.
Я полез на крышу.
Кирпичная избяная труба заканчивается над шиферным листом крыши, выше идет железный окороток буровой обсадной трубы. Глиной трубу давно никто не обмазывал, старые куски потрескались и расползлись, железный окороток наклонил шею.
Ледяной ветер с реки сдувал робкое солнечное тепло, в рубашке на крыше зябко. Но вид! Ровными рядами желтеет на черноземе картофельная ботва. За Каном дымка; дачники бродят по берегу с удочками. У далекой холмистой гряды желто-багряная шуба лесов выстилается сиреневым уже подолом. В конце улицы знакомые «Жигули» появились. Семен привез и Парфена. На крыше слышен их говор в ограде:
— Чо, приехали-то? — будто не родные, ворчит дед на сыновей.
— Так день рождения у тебя, — смеется Семен.
— И скоко мне? Вроде отмечали уже…
— Кто баню-то топит, квартирант твой? Не уехал еще? — Это Парфен. Баню, он любит и цену доброму пару знает.
— Ён. Вам же отца помыть некогда. В родной дом брезгаете заходить, — сердится Супрун на пустые вопросы: смекнул, что сегодня — его день.
Братья замечают меня на крыше у трубы. Железный окороток я уже поправил, обжал его кирпичами и мягкой проволокой заарматурил — не собьет ветром.
— Николаич! Ты чего туда забрался? Сверзайся, у деда праздник сегодня. Еще раз осмотрелся с крыши.
Деревня красивая в свете закатного солнца. Чистая желтая стерня в полях бурым песком стелется после уборки хлеба, вдоль речушки за мостом по лощине густой ивняк осенними расцветками играет в свете вечерней зари. Летний гурт на холме оживлен молодняком в загоне. Пастухи у костра за вечерней кашей, хотя рядом имеется стол под навесом рядом с жилым вагончиком.
Ах, как хорошо все-таки жить, как сладко жить на склоне лет.…Сегодня с братьями уеду в город. До следующей осени. Жив ли будет к тому времени старый восьмидесятилетний Супрун…
Я знаю, что весь этот год меня будет тянуть сюда. Может быть, не столько из-за рыбалки, старого Супруна, сколько из-за братьев Семена и Парфена, которых я полюбил всем сердцем: крепкие русские мужики, на которых веками держалась, и будет держаться русская земля. Сегодня, после бани, будут и гармошка, и частушки, и песни, а под занавес мы даже и спляшем все трое в тесной горнице под желтой, засиженной мухами, лампочкой.
Бегут весенние ручьи.
И солнце в них купает ноги.
А мы куда-то все спешим!
И проклянем, свои дороги!
Ох! Ты синее небо России!
Хожу, расставаясь с тобой…
…Вскоре я встретил в городе Семёна на новом «Мерседесе». Прокатил меня. Поговорили. Дед в деревне опять пьет; в доме пыльно и не белено. Восемьдесят первый год старому Супруну, а все угомона нет.