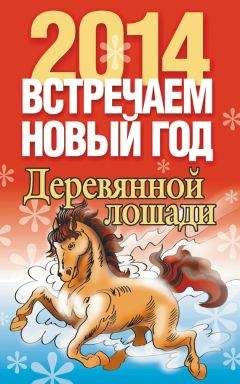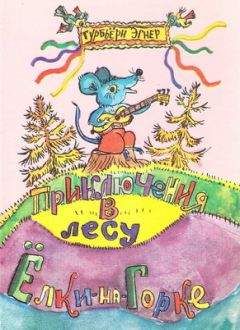Джон Апдайк - Под защитой
Уильям спросил:
– А он часом не как Арчи, т-т-т-тараканом не был?
Крупман напрягся, опустил глаза, спрятавшись за своими пушистыми ресницами, а когда снова поднял, то зрачки стали маленькими и холодными, как отверстия у мелкашки.
– Хороший вопрос. Был там один пробел – между тем, как он родился рыцарем при дворе Карла Великого и матросом в Македонии (это там, где теперь Югославия) при Нероне[1], так вот про то время он вспомнил только, что шастал по кабинету и постоянно что-то грыз, так-то вот.
Крупман, прыщавый и остролицый, осклабился, как хорек, а Гриффин радостно взвизгнул.
– Он пытался кусаться и чуть не укусил кого-то из ассистентов, – Крупман заговорил шепотом, до того ненормально серьезно, что Гриффин мгновенно притих, – и они считают, что потом шестьсот лет подряд он рождался волком. Скорее всего, в Германии. И знаете, когда он родился в Македонии, – шепот Крупмана стал почти неразличимым, – он убил женщину.
Гриффин застонал от восторга: «Ну, Крупман! Ну ты даешь!» – и хотел толкнуть локтем Вирджинию в бок, но попал по руке, и она выронила сигарету, которая, кувыркнувшись, полетела на покрытый пластиком стол.
Уильям с тоской посмотрел поверх их голов.
Толпа возле прилавка с содовой к тому времени поредела, так что ему было видно, как открылась дверь, как вошла Мэри и постояла на пороге в нерешительности и как сигаретный дым смешался в дверном проеме с кружившимся снегом. Наверное, из-за дурацкого крупмановского рассказа на ум пришла «волчья погода», и Мэри в дверном проеме показалась серой бесплотной тенью, застигнутой снегом врасплох. Как и была, в шарфе, накинутом на голову, она подошла к Люку, купила пачку сигарет и снова ушла, и пневматический механизм над дверью ей вслед зашипел. Много лет – на самом деле, всю жизнь – она становилась центром компании: и во втором классе, когда вместе возвращались домой по Джуэтт-стрит, и в шестом, когда все ездили на велосипедах до самой каменоломни и до владений Рентшлера, а по субботам играли в «жесткий» футбол, и в девятом, когда она стала ходить с десятиклассниками в Кэндлбридж-парк кататься на роликах, и в одиннадцатом на вечеринках у нее дома, где гости задерживались за полночь, а в воскресенье с утра садились за руль и неслись в Филадельфию и обратно. И всегда у нее был парень – сначала Джек Стивенс, потом Фритц Марч из их класса, потом мальчики классом старше, потом Баррен Лорд, который, когда они были в средней школе, учился в старшей, и о котором, едва начинался футбольный сезон, писали во всех газетах; а в этом году летом она работала в Олтоне официанткой и познакомилась там с кем-то уже совсем взрослым. В выходные она теперь уезжала, и на вечеринках о ней не вспоминали, будто ее и не было, и виделись они только разве что на уроках или в кафе у Люка, куда она заходила за сигаретами. Сейчас плечи ее были опущены, лицо спряталось под шарфом, как под капюшоном, и пальцы перебирали монеты на прилавке под мрамор. Ему захотелось встать, подойти, утешить ее, но он сидел в глубине, в зале, где из кабинок неслись вопли и визг, где с одной стороны слышалось звяканье механического пинбола, а с другой жизнерадостный грохот музыкального автомата. Он рассердился на себя за свое желание. Он любит ее слишком долго, чтобы еще и жалеть – жалость способна разрушить то искреннее благоговение, которое он испытывал перед ней и за которое еще не был вознагражден.
Следующие два часа после обеденного перерыва он провел на латыни и в кабинете самостоятельной подготовки. В кабинете кроме него были еще пятеро старшеклассников, которые играли в крестики-нолики, сосали леденцы от кашля и скучали, а он готовил уроки. Для начала он перевел тридцать строчек из «Энея в Царстве мертвых» Вергилия[2]. Неуютный, огромный, с низкими потолками полуподвальный класс вполне можно было сравнить с входом в Тартар. За перегородкой, выкрашенной в цвет сливочной помадки, в столярной мастерской визжала, звенела циркулярная пила, и в конечном ее вопле появлялся странный, даже пугающий призвук – «бзззык!». Потом он решал десять задач по тригонометрии. Продирался сквозь путаные дебри, разрубал узлы, отсекал неверные ответы и находил в длинном, но все же конечном ряду, объединявшем Пространство и Плоскость, нужный квадратик. И в конце концов, когда на старом козырьке над подвалом уже набралось столько снега, что он посыпался вниз, в бетонированные, с решетками ямы, куда выходили окна, прочел рассказ Эдгара Аллана По[3]. Осторожно он закрыл последнюю страницу, чувствуя, как в нем приятно звенит финальная нотка страха, и увидел красную, влажную, источавшую запах ментола внутренность рта и губы, обведенные розовой, в комочках помадой – Джуди Уиппл как раз хорошо зевнула, – и от сознания выполненной работы, от снега, падавшего за окном, от того, как медленно ползли здесь, в их убежище, минута за минутой, ему стало тепло и уютно. Потолок, покрытый перфорированной звукоизоляционной плиткой, показался ему входом в длинный тоннель, по которому предстояло идти долго – из старшей школы в колледж, из колледжа в аспирантуру, оттуда снова в колледж, но уже чтобы работать, сначала стажером, потом ассистентом, доцентом, наконец профессором кафедры, который владеет десятком языков и тысячей книг, в сорок лет блистательным, в пятьдесят умудренным, в шестьдесят обрести известность, признание в семьдесят, тогда же уйти на покой и все дни напролет просиживать в кабинете среди книжного безмолвия, до тех самых пор, пока не придет пора для последнего перехода, от одной тишины к другой, когда он умрет, как Теннисон[4], с «Цимбелином»[5] в руке, на постели, залитой лунным сиянием.
Приготовив уроки он должен был идти в кабинет 101, готовить карикатуру для спортивной рубрики школьной стенной газеты. Он больше всего любил школу в такое время – когда из нее почти все разъезжались, когда выметались домой ее другие, бестолковые обитатели, бездельники, деревенщина. Когда в коридоры выходили уборщики разбрасывать по полу похожие на зерна комочки красного воска и собирать потом свой урожай, сметать широкими щетками шпильки, обертки, просыпавшуюся пудру – всё, что набросал за день весь этот зоопарк. Из физкультурного зала, где шла тренировка баскетбольной команды, слышался стук мяча, а на сцене в актовом, за задернутым занавесом, репетировала группа поддержки. В кабинете 101 две машинистки с одинаково обесцвеченными перекисью прядками, украшавшими их пустые головы, стучали на пишущих машинках, время от времени бросая работу, чтобы похихикать или выправить опечатку. Миссис Грегори, спонсор их факультета, устало черкала карандашом, выправляя орфографические ошибки в «Новостях» стенгазеты. Уильям снял с картотечного шкафа трафаретный ящик, взял резцы и маленький пластиковый экран, достал из стенного шкафа трафареты, которые висели там на крючках, будто тоненькие голубые шарфики. Заметка называлась «Баскетболисты кланяются, 57:42». Он нарисовал, как высокий баскетболист кланяется идолу на коротеньких ножках, украшенному буквой «У» в честь победы Уайзертонской школы, после чего тонким резцом перенес рисунок на голубую пластинку. Он чувствовал на костяшках пальцев свое осторожное дыхание. Брови от напряжения сдвинулись, а голова кружилась, и сердце от счастья прыгало в такт с трескотней машинок. Трафаретный ящик был обыкновенной черной коробкой со стеклянной крышкой, которая с одной стороны приподнималась, закреплялась на двух ножках, как самый примитивный каминный экран, и в щель ставилась лампочка в жестяном стакане. Он работал усердно, до рези в глазах, и в конце концов уже будто бы слился со светом, и будто бы уже это он сам светится за наклонным стеклом, над которым двигалась чья-то гигантская тень. Стекло разогрелось, и теперь важно было ни в коем случае не коснуться вспотевшей рукой размягченного воска, чтобы не испортить линию или букву. Иногда к коже прилипали серединки от «о», похожие на голубые конфетти. Но он знал, что делать, и действовал осторожно. Закончив работу, он вернул всё на место, чувствуя себя выше, чем раньше, возвышенный благосклонностью миссис Грегори, которая все это время просидела к нему спиной, давая понять тем самым, что он, в отличие от остальных, заслуживает доверия.
В коридоре у двери в кабинет 101 теперь слышны были только гулкие крики баскетболистов из спортзала, репетиция группы поддержки закончилась. Он всё уже сделал, но уходить не хотелось. Родители оба работали, и дома еще никого не было, а школа была ему тоже как дом. Он знал в ней каждый уголок. В том крыле на втором этаже за кабинетом рисования был неудобный, узкий мужской туалет, которым никто, кажется, никогда не пользовался. Именно в этом туалете Барри Крупман однажды попытался лечить его от заикания гипнозом. Голос Барри тогда звучал вкрадчиво, взгляд выпученных глаз будто бы проникал внутрь, и вдруг радужки и белки у них слились в одно смутное пятно, и Уильям обмяк, прислонился к стенке, но, к счастью, заметил кровянисто-красные уголки и, зацепившись за них сознанием, понял, что едва не отдался во власть человеку, интеллектуально себя ниже, и, может быть, он так и остался заикой, потому что тогда отказался от эксперимента.