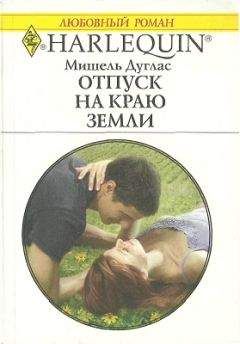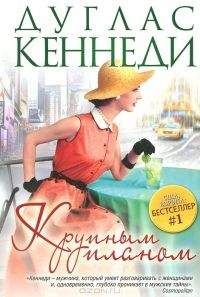Екатерина Перченкова - Большая жизнь Дугласа Фогерти
Однажды я сидел у себя за письменным столом, выпив лишнего и решая, стоит ли в таком виде показываться в гостиной, взял карандаш, ручку, ластик и стал рисовать мускулистую голую девицу верхом на драконе. Девица вышла обычная, как будто скопированная из анатомической хрестоматии, а на драконе я оторвался, как не отрывался давно (подцепил это словечко у сына, точней ведь не скажешь), вымучивая и блики на чешуе, и глаза, и когти, но стараясь, чтобы дракон казался нарисованным небрежно и быстро. К вечеру я был трезв, опустошён, испачкан потёкшим стержнем и доволен жизнью. К вечеру я уже точно знал, что и как буду делать дальше.
Всё свободное время я стану жить так, как если бы я был Дугласом Фогерти – двадцатидвухлетним беззаботным балбесом. Точнее – так, как если бы Дуг был мной, если бы в его тощую, лохматую и безмозглую оболочку запихнуть всё, чему меня научили университет, ранняя женитьба, здоровенная библиотека, скучный камень на могиле Марка, гипертония и психоаналитик.
Я завёл дневник – файл, который назвал буквами DF – и писал туда всё, что написал бы Дуг, если б был мной. Я рисовал всё, что он нарисовал бы, если бы на самом деле умел. (У Дугласа был бумажный дневник, я нашёл его, открыл посередине и прочитал, как он дрочил в гараже, представляя себе какую-то Пэм; на два предложения было пятнадцать ошибок. Я должен был сжечь дневник, но вместо этого пошёл и выкинул его в мусорный бак на соседней улице. Сейчас говорю – и на Страшном суде скажу: эта позорная тетрадка бесповоротно избавила меня от чувства вины).
Через несколько месяцев в моём дневнике было триста с лишним страниц, а рисунки не помещались под кроватью.
Голых баб и драконов я не рисовал уже давно. Если бы Дуглас Фогерти был мной, то он не появлялся бы дома, проводя всё время на побережье. Он раньше не видел океана. Если бы Дуг был мной, он любил бы Рокуэлла Кента: горизонтальную воду и вертикальные небеса. Наверное, купил бы цветную тушь. Я рисовал тушью, по крайней мере: на мокрой бумаге, на крафте и на картонных обрезках, остававшихся после дизайнерских экспериментов Дерека.
Я открыл дневник и прочитал с первой до последней страницы.
Там был настоящий Дуглас Фогерти, а не то ходячее недоразумение, которое я видел каждый день. Не знаю, как этого парня создавал Господь, но у меня получилось лучше.
Это была книга – и хорошая, кажется, книга. И я никому, ни-ко-му не мог это показать.
Даже Дугласу.
А хотелось нестерпимо.
Весь неприкосновенный запас, четыре упаковки ксанакса, в бутылку виски.
Я взял эту несчастную бутылку и пошёл к Дугласу, пнул дверь и позвал его пошляться по берегу. Он послушно подскочил и сорвался за мной, правда что ли – как собака. И я вспомнил, как давным-давно прочитал в газете, что ветеринары усыпляют собак отвратительным препаратом: они мучительно задыхаются и не могут пошевелиться, а хозяину кажется, что собака заснула. И сказал Дугласу, что у меня весь день болит сердце, поэтому я сегодня не пью. Он хлопнул меня по плечу, пробормотал что-то вроде «не вешай нос» и присосался к бутылке. На виски у него никогда не хватало денег, Дуг покупал только дешёвое пиво, зато целыми упаковками, которые занимали половину холодильника.
Мы ходили полчаса, не больше, и Дуг нёс что-то про мотоцикл, который купил бы, если бы нормально зарабатывал, потом начал напевать дрянную песенку, его уже хорошо развезло, потом задумался и спросил: тебе никогда не хотелось уснуть в лодке?
Он впервые сказал то, что мог бы сказать Дерек. Или Триша. Или я.
Это смерть в нём сказала.
Я повёл его на лодочную станцию, уже закрытую к ночи. Дуг не помещался в лодке лёжа, но я снял фанерную банку, и места стало больше.
- Я нажрался, - печально констатировал Дуг и закрыл глаза.
И ничего больше не говорил.
Вернувшись домой, я вошёл в его комнату и по-настоящему убил ненастоящего Дугласа Фогерти. До утра в моём распоряжении были его ноутбук, рисунки, пара блокнотов, пароли от почтового ящика и блога, содержимое карманов курток и джинсов. На рассвете я растолкал Дерека и сказал, что у меня пропали лекарства и что Дуг не ночевал дома. К тому времени, когда на лодочную станцию приехала полиция он остался только в двух ипостасях: остывающее тело в белой рубашке и парусиновых штанах (не хочу знать, уснул он ангельским сном или захлебнулся собственной рвотой, настоящий Дуг – спящий в деревянной колыбели, в океанской летучей гробнице) – и трёхсотстраничный файл в моём компьютере. И ещё рисунки, но они не главное; так – для полноты картины.
Следующие два месяца я вытаскивал из небытия настоящего Дугласа Фогерти. Того, который писал дневник и покончил с собой.
Ненастоящий помогал мне. Он, несмотря на туповатость и постоянную ухмылку, оказался парнем необщительным: с кем-то тусовался на пирсе и выпивал, клеил каких-то девиц, но никто ничего о нём толком не знал. У него хватило ума (а точнее – инстинкта человека, над которым часто смеются) не показывать этим девицам свои стихи и рисунки и не писать им писем, в которых была бы очевидна его убийственная безграмотность. У него не хватило ума – и это был поистине подарок от мёртвого Дуга – вести блог в публичном доступе. Не догадался снять галочку в установках – и никто не видит вот этого: «У Джонса пиво неочинь». «Хотел бы я занятся дайвенгом», «Почему меня никто не коментит?»
Я всё это дерьмо отредактировал: заменил на свой дневник, то есть на дневник настоящего Дугласа, оставив от прежнего хозяина только несколько фотографий. И снял галочку, разрешая всем желающим смотреть на Дугласа Фогерти .
И не заходил на эту страницу долго, очень долго, пока однажды посреди ночи ко мне не вломилась пьяная, рыдающая взахлёб Триша и не призналась, что полюбила Дугласа с первого взгляда, но он был такой странный человек, совсем не от мира сего, что не получилось даже нормально поговорить, а теперь его нет, и жизнь кончена. Триша у нас очень умная истеричка. Через пару недель она дала интервью какому-то сетевому журналу, а Лиза подсуетилась и опубликовала свои воспоминания о Дугласе в журнале бумажном, уважаемом и очень андерграундном.
Книга вышла скоро, и Дуглас на обложке был неожиданно впечатляющий, с той самой моей фотографии. Написанные моей рукой даты и буквы DF в углу нескольких попавших в книгу рисунков были неотличимы от оригинала. Какие-то дуры затеяли носить на лодочную станцию и к нам под ворота гаража свечи в стеклянных банках, цветы и бумажные кораблики. Тришу узнавали на улицах. Я отказывался говорить про Дугласа, и все воображали, что понимают меня.
А знаешь, Дуг, я бы дал интервью.
Я бы рассказал всё, о чём мы с тобой говорили.
Я не очень хорошо понимаю, что имею в виду, говоря «ты».
Сейчас ноябрь, Дуг. Позавчера был твой день рождения. К Трише опять приезжали спрашивать о тебе. Позавчера одна женщина поставила свою идиотскую свечку слишком близко к забору – и весь виноград сгорел. Он был уже без листьев и с высохшими ягодами, собирался зимовать. Вспыхнул, как солома. Как бумага. Как волосы. Эти, приехавшие к Трише, поймали меня на улице и спросили, что бы ты сказал, если бы видел. Я ответил, что тебе понравилось бы, как горел виноград. Потому что мне понравилось. Это было красиво. И очень жалко.
А ты, наверное, был бы страшно расстроен, требовал бы найти ту женщину и оштрафовать.
Все эти падальщики, знаешь, ушлые ребята: они очень скоро раскопают, в чём дело. Может быть, даже завтра.
С некоторых пор я не думаю, что будет завтра.
Я думаю – зачем.
Видишь ли, Дуг это бес сочинительства меня попутал. Я мог бы выдумать тебя. Мог бы выдумать другого человека вместо тебя. Я из тех уродов, кому мало собственной жизни, кто обязательно выдумает что-нибудь ещё, или кого-нибудь, чтобы пожить и за него тоже. Нет, враньё. Я сочиняю даже сейчас, говоря с человеком отсутствующим, несуществующим, но способным поймать меня на лжи – и я всё равно ему лгу.
Видишь ли, Дуг, я затеял всё это не ради трёхсот страниц, пропади они пропадом. Не ради рисунков, это и вовсе смешно. Я должен был однажды увидеть что-то большое. Огромное. То, что сожмёт мне сердце и переломает кости. Я должен был столкнуться с ним лицом к лицу, потому что иначе и бес – мелочь, и сочинительство – туфта. А ты был обыкновенным, простым, прозрачным, я тебя, дурака, видел насквозь, и всё время ждал, что кто-то сейчас подойдёт и посмотрит сквозь тебя с той стороны. И когда мы шли на лодочную станцию, я точно знал – зачем. Я хотел, чтобы смерть поглядела на меня твоими глазами, Дуг, бестолковое ты существо, простейшее позвоночное, лишённое всяческих перьев. Моё нечестное зеркало. Мой сияющий лабрадор.