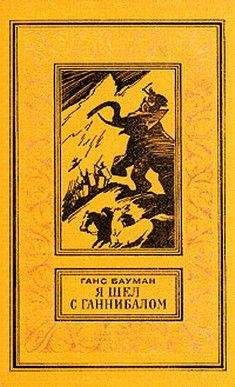Мария Спивак - Любезный друг
Конечно, нигилизм — одна из форм взросления. Но нигилизм плюс чрезмерная широта взглядов минус опыт эмоциональных переживаний — смесь взрывоопасная. Неизвестно, к какому бомбизму пришёл бы Женя, если бы вдруг не начал писать стихи. Это случилось само собой и не вовремя — надо было готовиться к вступительным экзаменам в университет. Из-за Юрия Гагарина Женя чуть не перекроил все планы, но — наверное, к счастью — обошлось, хотя стихи, не исключено, явились как раз из космоса: стоило открыть учебник, а тем более тетрадку, как в голову невесть откуда набивалась и там принималась усиленно роиться мошкара томительно прекрасных слов… Вытанцовывая причудливые па и дразня созвучиями, мошкара вводила беднягу-абитуриента в ступор, а затем, убедившись, что жертва парализована, превращалась в густую тучу огромных навозных мух, которые, ослепляя мерцанием, оглушая жужжанием, не успокаивались до тех пор, пока Женя не выхватывал шпагу-ручку…
В себя он приходил, уставившись на тетрадный лист и новенькое, с иголочки, стихотворение.
Стихи были хороши: умны, стройны, глубоки, ироничны, философичны, красивы. Ничуть не хуже, даже лучше — во всяком случае, тоньше и оригинальней — того, что считалось высокой поэзией современности. Журнал вроде «Юности» наверняка бы их напечатал — вот только слава рифмоплёта Женю нисколько не привлекала. Требовалось сосредоточиться и поступить в университет; он досадовал на внезапное нападение дуры-музы. Впервые нечто извне побеждало его желание заниматься. Он не особо тревожился из-за экзаменов — чтобы он, да не сдал? нонсенс! — но странный паралич воли перед игрой подсознания ошарашивал и немного пугал.
Экзамены он, разумеется, сдал блестяще — на исторический: философский проиграл по списку достоинств и недостатков из-за двойной галочки в графе «идеологизированность». Остаток лета сгорел в упоительном флирте с науками, которые вскоре предстояло изучать, и в сентябре Женя — о, как его распирало от гордости! о, как трудно было хранить невозмутимость! — официально сделался студентом первого курса МГУ. Правда, прежде чем попасть в рай, пришлось пройти через чистилище: их с места в карьер отправили на какую-то безобразную стройку. Это явилось оскорблением всех чувств, и память гневно вычеркнула события того периода, о чём Женя впоследствии жалел: культрологически приключение было познавательным.
Вероятно, амнезия в отношении обыденного объяснялась и другим: волшебством университетского мира. Он зачаровывал. В отличие от школы, здесь Женю окружали равные, те, с кем он говорил на одном языке — и даже те, на кого он смотрел снизу вверх. Он сразу вошёл в элиту курса, вместе с парой-тройкой других мальчиков и девочек. Они засиживались в стенах альма-матер долго после окончания лекций на всевозможных факультативах и дополнительных семинарах, а то и просто беседовали с преподавателями о житье-бытье. Две девочки оставались не столько ради науки, сколько ради Жени — но тот, хотя всё понимал, не обращал на них никакого внимания.
От психологической дачной травмы он излечился, но его гораздо сильнее тянуло к мужчинам, богоподобным умным мужчинам, общества которых он был так долго и так основательно лишён. Среди профессоров имелись индивидуумы, воплощавшие и его интеллектуальный, и эстетический идеал — самый их вид, звук их голоса рождали в Жене почти эротический трепет. Раз или два он ловил на себе «ответные» взгляды. Его, знатока античной культуры, это не смущало — абстрактно он придерживался мнения, что гомосексуальный опыт расширяет чувственный кругозор, — однако практически мысль об интимных отношениях любого свойства ему претила. Это было лишнее, лишнее, лишнее…
Вместо радостей плоти он без разбору предавался радости общения, но одни только избранные знали, что он пишет стихи. Стихам по-прежнему недоставало «мяса», плоти и крови, живого чувства, но автор об этом не знал, а читателям вполне хватало утончённой, умной изысканности, разительно не похожей на всё то, что предлагала официальная поэзия. Необычными стихами восторгались, их заучивали и пересказывали; к весне Евгения окружала толпа почитателей. В одну из суббот, вечером, товарищи буквально отволокли его на площадь Маяковского и заставили участвовать в поэтических чтениях. Заставили — слишком сильное слово: он не очень-то возражал. Перед огромной аудиторией под открытым небом он почувствовал себя замечательно на месте и сорвал бурные аплодисменты. После выступления подошли люди, просили продиктовать понравившиеся строки; одна красивая девушка попросила автограф.
Благодаря этой девушке, Алечке, он покончил с поднадоевшим целибатом, и процесс больше не казался ему неэстетичным. Последовал бурный роман, своего рода землетрясение для обоих — с эпицентром в лице Жени, его поэтических и академических достижений, его невероятной популярности, его востребованности. Дня не проходило без приглашения выступить со стихами, иногда — с лекцией о поэзии, где-нибудь в клубе или у кого-то на квартире. Да, успех был пока мелкий, местечковый — и всё же представьте: тебе, тебе, тебе рукоплещут, твои, твои, твои стихи публикует довольно известный журнал…
Мать с бабушкой почти не видели своего «ребёнка», но когда видели, осторожно заводили разговор о том, что жениться ещё рано.
Он и не собирался. Первые две недели романа, в упоенье собственной боевой мощи — пожалуй. Но затем вступил в силу разум, а следом — и то очевидное любому другу Горацио обстоятельство, что на свете есть много другого увлекательного, что предстоит перепробовать и испытать. Верность же без внутренней потребности её соблюдать Женя считал лицемерием, и вскоре две-три любовницы параллельно сделались для него нормой — при том что частая их смена и вообще весь оголтелый промискуитет не отнимали слишком много времени ни от учёбы, ни от общественной жизни, ни от «творчества». Кавычки, в которых поначалу произносилось это слово, быстро замылились и начали отдавать жеманством, и Женя навсегда их опустил: творчество — оно и есть творчество. Нечего лицемерить.
Алечка в горе и радости оставалась рядом, с храброй улыбкой игнорируя сонмы его подруг, и со временем, вероятно, стала бы ему лучшей из жён — но только мойрам по неизвестной причине такая схема развития событий пришлась не по нраву.
Получилось следующее.
Женя всегда старался дистанцироваться от политики. Он считал, что всякому мало-мальски знающему историю человеку должно быть ясно: Россией испокон веков правили и будут править люди, глубоко равнодушные к чаяньям её населения — в первую очередь потому, что это всегда устраивало и будет устраивать само население. Ergo, пытаться что-нибудь изменить — бессмысленная трата сил; умный живёт в предлагаемых обстоятельствах. Но, несмотря на столь удобную позицию, Женя почему-то то и дело попадал в компании диссидентствующих элементов, проводил с ними время, вступал в философские дебаты — и, когда властям надоели сборища на Маяковской, вместе с ними был вызван для беседы «куда следует».
Боялся он? Да. Согласитесь: столь ценному человеческому экземпляру глупо гнить в Соловках. Однако беседа с первой минуты пошла на удивление мирным путём. Человек в сером костюме тихо-спокойно, по-отечески, добрым голосом расспрашивал о том, о сём — и Женя, расслабившись, честно рассказал, кто впервые привёл его на чтения, с кем он там познакомился, с кем подружился и т. д., и т. п. Отрицать связь с Алечкой в доверительном разговоре казалось нелепо, и на прямой вопрос он дал прямой ответ: так, мол, и так, грешны. Дознаватель, мотнув головой, усмехнулся, и дальше имя Алечки не упоминал. Женю отпустили пожурив, похлопав по спине и посоветовав больше времени уделять учёбе и меньше толкаться по площадям. Ведь он же хочет нормально доучиться и, как честный гражданин, послужить стране? Вот и вперёд.
Женя ушёл успокоенный. Однако впоследствии всех, кого он вскользь упомянул, вызывали на допросы, долгие и муторные, а бедную Алечку и вовсе промурыжили сутки. Никого, к счастью, не посадили и лишь одного исключили из комсомола и выгнали из института, но он плотно общался с известными антисоветчиками, и в его злоключениях Женя никак не был виноват. Но вроде бы что-то сказанное серому костюму явилось связующим звеном в некой цепи событий, и, очевидно, серый костюм на Женю активно ссылался — теперь при встречах кое-кто из ребят не улыбался радостно во весь рот, а хмуро отводил глаза в сторону…
Алечка, когда Женя к ней заявился, посмотрела сквозь него с той же храброй улыбкой, с какой раньше смотрела сквозь его пассий, и тихо сказала: нам лучше расстаться.
Он раздражённо дёрнул губой, развернулся и ушёл, но осадок, как говорится, остался. Она, значит, якшается чёрт-те с кем, а он поэтому — сволочь и предатель? Где логика? Что за чушь! Какая глупость вся эта их «борьба», вся идиотская «политика»!