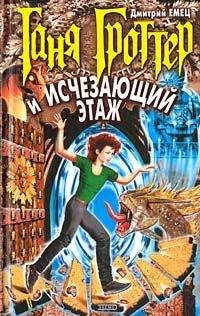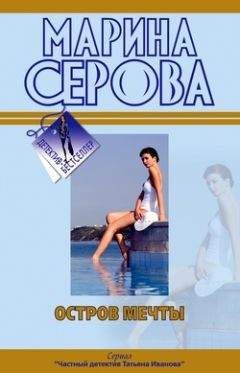Михаил Веллер - Травой поросло
Мадам тихо спросила, далеко ли еще. Я ответил, что минут тридцать. Водитель стряхивал капли со лба. Я пожалел Жанжеров. Его кремовый костюм местами темнел. Ее, похоже, слегка укачало; бледная под гримом, она обмахивалась промокшим платком.
– Мадам нехорошо? Мы сделаем остановку?..
Слева осталась рощица. Нет, они не хотели останавливаться. В тени бы, на травке… Торопятся они куда…
Машина раскалилась. В автомобильной духоте цветы дурманили. Позже выяснилось, что это был самый жаркий день даже этого, необычайно жаркого лета.
Степашкино оказалось – два десятка неказистых домиков у озерца, заросшего осокой. Белье мертвело в пустых дворах: безмолвие и зной.
Жанжер зашевелился, посмотрел:
– Вот туда, пожалуйста.
Остановились за селом. Берег поднимался отлого, наверху тополь старый, приметный.
Я помог им выбраться с их цветами. Они очень заботились о цветах. Пиджак у Жанжера со спины был мокрый, зад брюк тоже. Жена постояла, держась за его локоть, и достала зеркальце.
Водитель сел на траву у обочины.
– И тени-то нет!.. – Он стащил чехол с сидения и швырнул на самый припек, улегся, шумно вздохнув.
Я размял ноги. Супруги тихо совещались. Я отошел чтоб не мешать.
– Мсье Владлен, – позвала наконец жена. – Вы бы не согласились нам помочь?
Почему нет? За это нам и платят.
– Проводите нас, пожалуйста.
Мы медленно поднимались втроем. Я предложил понести цветы; они вежливо поблагодарили и несли сами. Хотел бы я знать, в чем заключалась моя помощь?
Дошли до тополя. Жена взглянула на мужа.
– Спасибо, мсье Владлен, – произнес он. – Дальше мы пойдем сами.
Отойдя, Жанжер передал ей все цветы, вытащил из бумажника листок и фотографию и стал сличать что-то, глядя на дерево и по сторонам. Потом сделал еще десяток шагов и остановился, и она подошла к нему с цветами.
И вот представьте себе такую картину: зной оглушающий, ни души, за желтым полем на пустоши коровы пасутся и слышно, как ботала их брякают, трава редкая, выжженная, – и на эту вот землю женщина опускает цветы, сама опускается, и по спине ее видно, что она плачет. А мужчина стоит рядом, склонившись, и вытирает глаза и все лицо платком.
Я отвернулся и пошел вниз к машине.
Иногда находит ужасное детство; но только я закурил у Саши (водителя) «Опал» вместо своих "Житан".
…Проехал тот грузовик, и по сидящим в нем я понял, что французы возвращаются, и понял, зачем надо было их проводить…
Неловкость вынужденного знания исказила атмосферу, словно в воздухе между нами проступили невидимые ранее связи. Жанжер негромко попросил остановить где-нибудь напиться: мадам плохо.
Притормозили у колодца. Я откинул крышку: из глубины пахнуло. Ворот раскрутился, ведро гулко плюхнуло, цепь напряглась; в обратном движении ворот мерно поскрипывал; появилось ощущение чего-то рекламно-ненастоящего: деревенский пейзаж, черная «Волга» и иностранцы, пьющие воду из колодца.
Старуха следила из калитки. Я подошел и поздоровался.
– Что раньше было – над берегом, где тополь?
– Да и ничего не было…
– В войну, не знаете?
– Своих хоронили немцы, – открыла она мне уже известное.
Жанжеры ждали. Старуха присела на скамейку у забора. И я сел, с чувством "назло всему".
– Вот – привез дьяволов, – сказал я и устыдился: будто желаю отмежеваться от них и подольститься к старухе.
Она не отозвалась, пожевала.
– Что ж, своего, значит, проведать… – Ее морщины были спокойны…
– Не осталось могилки-то.
Я пошел на свое место.
Ехали молча. Мадам всхлипывала изредка. Машина превратилась из духовки в пыточную камеру. Я единственно мечтал, как приму в прохладном полусумраке квартиры холодный душ. Каково приходилось им… я бы пожалел их, наверное, если бы не было так жарко.
Попросили: Саша остановился у куста. Жанжер бережно устроил жену в тень. Мы сели рядом: другой тени тут не было. Я собирался с духом, чтобы уйти курить на солнце.
Надолго запомнится им эта поездочка. По их возрасту – последняя, может статься.
– Мы из Эльзаса, мсье Владлен, – глуховато выговорил Жанжер… – В Эльзасе немцы забирали всех молодых. "Солдаты поневоле", их называли. Он был наш единственный сын, Патрик. Он был сапер, – добавил он, неловко повисло полуоправдание, зачем?
Добрались легче. Мы отдохнули. Мадам успокоилась.
Расстались у гостиницы. До завтра я Жанжерам не требовался: они улетели утром. Вернувшись к себе, я упал и заснул.
Проснулся в сумерки. Долго лежал в том особенном блуждании неясных мыслей, когда просыпаешься неурочно, не сразу вспоминая, какое сейчас время суток и что было перед этим. Цветы, наверно, уже завяли. Наши цветы. Или их растащили деревенские пацаны. В своем номере они сейчас как? Погиб ли кто в войну у старухи? С кем теперь буду работать? Провожу их завтра за вертушку в аэропорту: мы посмотрим друг на друга, и Жанжер поймет, что презенты переводчику здесь неуместны. Или, предвидя, передаст для меня диспетчеру; ей и останутся тогда. Ерунда какая…
Голубь прочеркнул окно. Я встал и умылся.
Миновав соседей, спустился на улицу. Небо выставляло свою ювелирную витрину. Фонари тянулись парами. На лицах проходящих девчонок ясно читались будущие морщины, – такое уже было настроение. Я соображал, куда бы мне пойти. Быть одному не хотелось, но ни с кем, кого я знал, мне тоже сейчас не хотелось быть. У меня часто так бывает.
***