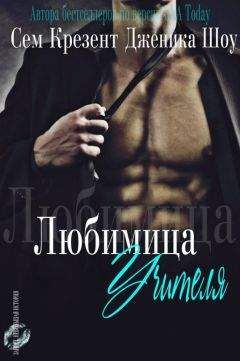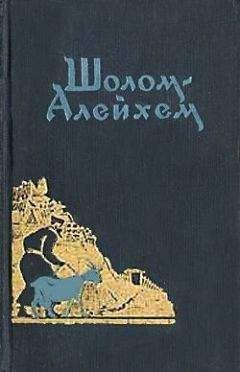Яан Кросс - Аллилуйя
— Доктор, опыт показал, что после объявления приговора заключенного быстро увозят отсюда. Не следует ли вам учесть это?
Доктор пробормотал рассеянно и почти радостно:
— Ну что ж, увозят так увозят. Значит, потопаем…
Другие, которых это пока не касалось, были более практичны. У служащего Кунсткаммеры имелись валенки. А у директора «Фольксвагена» нож, заточенный из обрезка жести. Из отворотов каждого валенка, на месте подколенной впадины, они вырезали два овала величиной с ложку — для защиты докторских ушей.
— Да-да, доктор. Даже здесь, в Москве, уже десять градусов мороза. Ближе к Северу несомненно все двадцать.
Брючные ремни и подтяжки у всех отобрали еще при поступлении. И в тюрьме ни у кого из них живот не раздобрел, а, наоборот, усох. Так что и у доктора брюки держались на заменившем ремень запрещенном обрывке веревки. Отсутствие подвязок из-за ограниченности передвижения в камере их пока мало заботило. Теперь же Линге сказал:
— Доктор, не можете же вы отправиться в таком виде — из-за приличия, а также из-за холода, — чтобы носки обвисали на лодыжках. Подождите. У меня чудом уцелели подвязки. Возьмите их и подтяните носки.
Он сел в угол, который не просматривался в глазок, и снял коричневые шелковые подвязки.
— Берите! И носите их с честью…
Я, собственно, до сих пор не понимаю, почему он пожертвовал своими подвязками. Вряд ли из расположения к доктору. Скорее, пожалуй, понимая, что он, Линге, здесь в тюрьме рано или поздно лишится их, вполне вероятно, уже во время следующего шмона. Или из-за мелькнувшей мысли, что, жертвуя последней реликвией, он выторгует у судьбы какую-нибудь поблажку, а может, даже жизнь.
Доктор протянул руку и пробормотал:
— О-о… Я благодарю…
А Линге добавил:
— Ведь это подвязки самого фюрера!
Я словно вижу: на миг рука доктора Ульриха — на существенный миг — замерла в воздухе. Но затем он — рационалист, каким он все-таки был, — взял их. А поскольку он уже поблагодарил, пока подвязки были еще анонимными, у него не было необходимости что-либо добавить в ответ на дополнительную информацию.
В тот же вечер ему приказали: «На выход! С вещами!», то есть с серым парусиновым вещмешком, в котором лежала не очень чисто отстиранная в бане смена исподнего, и переправили в «черном вороне» через незнакомую Москву на какой-то неизвестный ему вокзал, а оттуда в еще большую неизвестность.
И вот теперь, сидя у меня в сушилке, он приподнял штанину из темно-серого тюремного полотна, подсунул палец под подвязку и, оттянув ее, щелкнул по светло-серым застиранным кальсонам:
— Вот они. Принадлежали лично фюреру.
Он взял со стола опорожненную кружку, приложил ее краем к нижней губе и — как бы это сказать — прошептал, провизжал, провопил, поддерживаемый гулким резонансом кружки: «Ich sage euch: wenn die Plutokrraten und die Juden mich dazu zwinngn marrschierrn wirr um das deutsche Blut und den deutschen Boden zu schьtzen — bis ans Ende derr Welt…»[3] — так подлинно, что, во всяком случае по моим давним радиовпечатлениям, можно было, зажмурив глаза — и, конечно же, зажав нос, — вообразить, что находишься в пресловутой мюнхенской пивнушке. Смеясь, я сказал:
— Не вам тужить, доктор. Когда-нибудь продадите свои подвязки за сто тысяч долларов. Не сомневаюсь, что найдутся чокнутые американцы, которые заплатят за них такие деньги.
Не прошло и двух недель, как подвязки у него украли. Он совсем не по-немецки хохотал над утратой ста тысяч долларов и рассказал мне еще одну историю.
Он жил в Берлине, ведь там находился его архив. У него была трехкомнатная холостяцкая квартира в пятидесяти метрах от северной окраины Тиргартена, три-четыре подружки, как я понял, в меру близких и в меру далеких, чтобы сохранить в отношениях с ними необходимую ему независимость. И несколько избранных друзей. Избранных, видимо, по обстоятельствам, которые в нацистской Германии предопределяли и ограничивали выбор друзей. А это означает прежде всего — по благонадежности и во вторую очередь — по общности интересов. Доктора интересовала история Германии, но еще больше, пожалуй, музыка. История Германии девятнадцатого и музыка восемнадцатого века. Особенно ранний период восемнадцатого. И совсем уж особенно — Гендель. Музыка Генделя и стала причиной его плодотворных контактов со шведом, с которым он познакомился за несколько месяцев до войны, выходя из Гарнизонной кирхи Потсдама после концерта музыки Генделя. Господин Пальмквист оказался новым атташе по культуре посольства Швеции.
Началось общение домами. Доктор Ульрих навещал господина Пальмквиста и его супругу в их квартире в доме шведского посольства. А атташе вместе с женой неоднократно бывали у доктора в Тиргартене. Для шведа и его супруги эти визиты не представляли никакой опасности. Доктору же приходилось считаться с тем, что для него они могли оказаться не столь безобидными. Потому что гестапо могло приглядывать за общением немцев с иностранцами, к тому же — с дипломатами, и тем более с дипломатами такой проанглийски настроенной страны, как Швеция. Конечно же, и приглядывало. Но, видимо, довольно одинокие люди, испытывая взаимную человеческую симпатию, пренебрегли подобной вероятностью, а может быть, даже несколько бравировали перед ее лицом. Пальмквистов я ведь не знал, что же касается доктора, то определенную браваду с его стороны я вполне допускал. На всякий случай я избегал разговора, который мог бы дать основание заподозрить меня в любопытстве: а не испытывал ли доктор Ульрих тайной симпатии к госпоже Пальмквист? Тем более что вскоре после начала войны и первых бомбежек Берлина атташе отправил свою жену обратно в безопасный Стокгольм. Но это нисколько не повлияло на совместные посещения мужчинами концертов и на их музицирование — то за «Стенвеем» Пальмквиста, то за неожиданно мощным домашним органом доктора, а также на их восторженное отношение, например, к некоторым партиям трубы в сюите «Музыка на воде» Генделя.
Война продолжалась, и беды Германии усугублялись. Все учащались ночи, которые они просиживали в бомбоубежище, а соответственно учащались и дремотные, с резью в глазах, нервозные дни. Увеличивалась и разница между тем, что ставилось на стол двух друзей. Если господин Пальмквист питался доставленными посольской спецпочтой деликатесами и все чаще таскал их в портфеле доктору, то у доктора, беспомощного в практических делах, обычной пищей все чаще были хлеб с опилками и мармелад на сахарине. А бомбежки становились все ожесточеннее, груды развалин росли, никаких концертов не было и в помине. И вот тогда, в марте сорок четвертого, подошел день пятидесятилетия господина Пальмквиста.
Это событие доктор хотел отметить достойно. Конечно же, не для того, чтобы продемонстрировать шведу все еще не исчерпанные возможности Великой Германии. Он с самого начала знакомства плевал на то впечатление, которое Великая Германия может произвести на иностранца. Возможно, не то чтобы в духе активного обличителя, но все же, как и положено честному гражданину, горестно и с волнением он с самого начала обратил внимание шведа на бесчеловечную суть фашизма. Так что в этом вопросе между ним и шведом царила полная ясность. По мнению обоих, эта страна с ее строем и руководителями являлась воплощением безумия и уже неотвратимо полыхала во всеуничтожающем пламени Рагнбрёка[4]. Что же касается дня рождения Пальмквиста, то, пользуясь поводом, доктор просто хотел выразить другу свое глубокое уважение, притом сделать это каким-либо более или менее оригинальным способом. Однако проявить оригинальность уже не было никакой возможности. Еще совсем недавно, имея знакомства, в подсобках или подвалах антикварных и букинистических магазинов можно было найти что-нибудь декадентское и запрещенное, то есть более-менее ценное. Но теперь уже нет. Потому что теперь магазины были эвакуированы или просто закрыты либо, того проще, превратились под бомбами в груды развалин. Хотя, по правде говоря, недавний товар этих магазинов даже в лучшем случае не соответствовал той оригинальности, к которой стремился доктор. Ибо он хотел подарить нечто совершенно личностное и уникальное.
И вот в пору постоянных недосыпаний из-за ночных бомбежек и вечной нервотрепки вследствие идиотских распоряжений («Эвакуировать архив в двадцать четыре часа! Оставаться на месте! Ждать распоряжений! Заминировать и взорвать, как только… Ценой жизни сохранить каждую бумажку!») — в пору этих взаимоисключающих распоряжений и непрестанного страха в ожидании бомбежек доктор все же не утратил способности усмехаясь выуживать из глубин своей фантазии оригинальные идеи, достойные дня рождения Пальмквиста. Пока ему не показалось, что вот теперь он додумался до лучшей из всех.
У господина Пальмквиста был автомобиль. Вероятно, где-то в потаенной глубине своей искренней, но суховатой и холодноватой натуры был он немного снобом. А почему бы ему чуточку и не быть им в его все же деликатной манере? А может, минутами он только казался доктору таким на унылом фоне тогдашнего Берлина? Во всяком случае, автомобиль у Пальмквиста был новехонький — с двумя неудобными запасными сиденьями, но в общем-то двухместный ярко-красный спортивный «мерседес». Для Берлина 1944 года это было нечто ослепительно вызывающее. И с номерами дипломатического корпуса Пальмквист невозмутимо разъезжал на ней по загроможденным развалинами улицам столицы, игнорируя козыряющих полицейских.