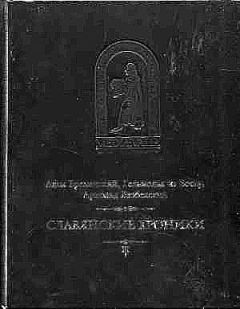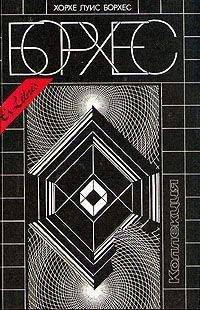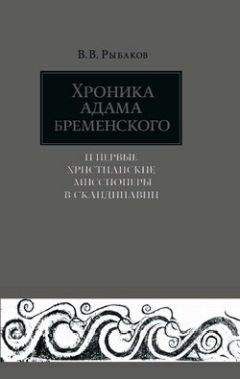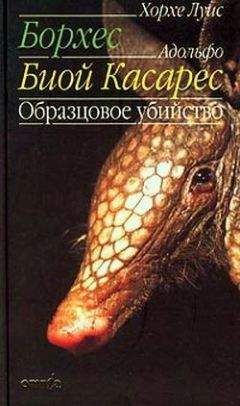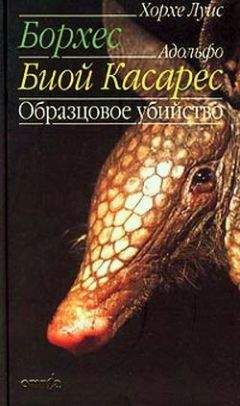Павел Новацкий - Заявление
— Непобедима страна, которая крепка английским духом! — сказал я в оправдание себе.
Детектив не шевельнулся.
— Я люблю гулять, — сказал я, — но не имею особых предпочтений, впрочем, иногда хожу в Гайд-парк. О, как меня раздражают асфальтовые дорожки, искусственное покрытие…
— Я могу назначить вам медицинское освидетельствование, — неожиданно произнес детектив, — однако не считаю это необходимым.
— Мой процесс будет иметь резонанс? — спросил я его.
— Так вы отрицаете свою причастность? — спросил он меня, пропуская мой вопрос мимо ушей — так их, наверное, учат.
Причастность? Я не понял, о чем речь, и, взглянув на детектива, вдруг подумал, что в мире есть много людей, которым важно быть там, где есть преступление, и совершенно не важно, по какую сторону закона, то есть любой полицейский мог бы стать преступником и любой преступник может в конце концов оказаться полицейским.
— Детектив, — сказал я, не решаясь продолжить чтение, — вы никогда не задумывались о том, почему люди так легко примиряют в своем сознании непримиримое? Вы должны это знать, ведь вы имеете дело с преступниками. Только знаете, на мой взгляд, люди порядочные, и особенно семейные, куда опасней. Вы согласны?
— Вы были в Хэмпстеде на прошлой неделе? — спросил детектив.
— На прошлой неделе? — переспросил я, чувствуя, что ситуация становится все более неловкой. — А это важно?
— А что, по-твоему, важно? — спросил детектив, и что-то живое впервые промелькнуло в его взгляде.
— Важно то, что у моей соседки ж…, как орех, — сказал я и захохотал.
— Вы не оказываете помощи следствию, — сказал детектив и начал что-то записывать.
Я перестал смеяться. Мне стало скучно; я подумал, что детективу, наверное, приходится прилагать усилия для того, чтобы оставаться нормальным. Но разве такой человек может по-настоящему любить?
Я продолжил чтение своего заявления:
— Культ физической силы в древности проистекал из жизненной необходимости, но эллинизм не коснулся Британии, как не коснулся и ренессанс, в котором культ человеческого тела…
— В рамках проведенного опознания потерпевшие женщины подтвердили, что именно вы преследовали их в парке. Они вас опознали, — как-то пресно изрек детектив.
Опознали! Меня это рассмешило, я даже перестал читать. А как они могли меня не опознать, если я единственный, кто стоял, спустив штаны, на этом опознании?!
Если на суде меня спросят, что мне понравилось в тюрьме больше всего, я скажу: опознание! И с удовольствием еще раз пойду на него.
Стараясь быть как можно более серьезным, я встал.
— Мой член, детектив, — начал я, — трудно не опознать. Взгляните сами, — я спустил штаны, — вот вам и опознание!
Стараясь оставаться серьезным, я все же не мог сдержаться и засмеялся, нет, загоготал.
Детектив молчал, он ничего не записывал и даже не потребовал, чтобы я надел штаны. Он смотрел на меня неподвижным, стеклянным взглядом, а потом вдруг начал рыться в своих бумагах, как свинья в жухлой листве.
Я посмотрел на него с беспокойством. Он все копался в каких-то документах, а я внимательно рассматривал его лысую бугристую голову на короткой шее; на самой макушке у него пульсировала венка. Мне вдруг стало жаль детектива. Люди не могут быть равными. Но кто определил ту степень цинизма, с которой мы эксплуатируем разницу?
Я натянул штаны и сел. Кстати, мне нравится арестантская одежда. Она легко снимается. Правда, я всегда полагал, что она будет в широкую полоску, как на картинках, изображающих каторжников. И что мне еще полагается шапочка! Но мода не стоит на месте, так что даже одежда смертников теперь является предметом дизайна.
Хотелось бы мне взглянуть на дизайнера, который пошил костюм смертника!
— В тюрьме есть камера смертников? — спросил я.
— Ищете друзей? — спросил детектив, прищурившись.
— Люди не водят с мной дружбы, — сказал я, — только жены тех, кто часто отлучается по службе, по-настоящему ценят мое общество. — Я засмеялся.
Детектив молча смотрел на меня, и у него ходили на скулах желваки. У мужчин я всегда смотрю на кадык и желваки, у женщин — на кожу. Гладкая кожа красит женщину больше, чем большая грудь. Кожа для меня важнее всего. Я всегда выбираю женщин с гладкой кожей. Не все это понимают.
— Почему на этот раз вы выбрали именно стадион? — спросил детектив.
Я не мог не отдать должного его настойчивости.
— Потому что хомячок! — сказал я и поднял вверх указательный палец.
Детектив сделал вид, что не понял, хотя не понимаю, что в этом непонятного.
— Хомячок? — Он наморщил свой лоб.
— Хомячок, — подтвердил я. — Тот самый, что на прошлой неделе застрял за батареей у школьника в Дартфорде. Вы разве не слышали? Об этом рассказывали по телевидению. Мы его спасали. И вы его спасали. Все его спасали. Страна спасала хомячка. И спасла! Сколько было радости! — у меня от одного воспоминания наворачиваются на глаза слезы. Великий день. Правь, Британия, морями!
— Вы были в Дартфорде на прошлой неделе? — вновь спросил меня детектив.
— Боже упаси, я держусь подальше от таких мест, — сказал я и умолк.
Он, кажется, все же не понял, что я ему сказал.
Детектив промолчал. Потом достал еще один документ, пробежал его глазами и снова посмотрел на меня.
— Вы действительно находите смысл в том, что делаете? — спросил я.
Он не ответил. Я хотел продолжить чтение своего заявления, но в этот момент открылась дверь и в комнату вошел констебль.
Быстро пройдя по комнате, он подошел к детективу. Наклонившись к самому его лицу, он что-то произнес, потом выпрямился и вышел так же быстро, как вошел. На меня он даже не взглянул, и это меня обидело.
Я взял свое заявление и стал читать, то и дело бросая взгляд на детектива:
— Таким образом, культ силы — это не больше, чем культ страха признания того простого факта, что любовь…
— Следствие закрыто, — сказал вдруг детектив. — До суда вы свободны.
Я посмотрел на него и не узнал — его глаза сузились и потемнели; он сидел прямо, положив руки на стол, и не сводил с меня своего тяжелого взгляда.
— А когда меня будут судить? — спросил я.
Он не ответил.
— Процесс будет освещать пресса?
Детектив молчал.
— Я…
— Что ты? — Детектив вдруг посмотрел на меня в упор. — Ты жалкий м…, — сказал он сквозь зубы. — Заткнись и проваливай.
Я не знал, что сказать, я был растерян.
— Ты мне не нужен, — сказал детектив и стал собирать бумаги на столе. Он совал их в папку, но они мялись, и мне показалось, что так нельзя обращаться с документами. Я протянул руку, инспектор остановился и поднял глаза.
— Документы, — сказал я.
— Что документы?
Он снова посмотрел на меня, потом на папку, потом отложил ее и снова вперил в меня свой тяжелый взгляд.
— Тебя волнуют документы? — Он сделал паузу и как-то зло усмехнулся. — Ты попал ко мне только потому, что на стадионе арестовали парня, который натаскал пластида под трибуны; хотел разнести там все к чертовой матери. Я вожусь с тобой только поэтому. Но ты не имеешь к этому отношения…
— Но я бы хотел сделать заявление, — осторожно сказал я, не очень понимая, при чем здесь другой парень.
— Проваливай, — сказал детектив, сморщившись. — Хотя, — он сделал паузу и снова уперся в меня взглядом, — если бы решал я, то я бы тебя посадил, чтобы ты гнил здесь. — Он горько усмехнулся. — А его отпустил бы… Тот парень плакал, — продолжил он, возвращаясь к своим бумагам, — когда его взяли, но не потому, что мы его арестовали, а потому, что не смог взорвать стадион. — Детектив смотрел теперь сквозь меня. — Он так хотел прикончить тысячу таких, как ты, — детектив посмотрел мне в глаза, и я зажмурился, — но только что покончил с собой в камере… Убирайся.
Я едва поднялся и тут же обмочился. Вошел констебль, брезгливо посмотрел на меня и вывел из кабинета.
В тот же день меня отпустили.
Суд так и не состоялся.
Теперь я почти каждый день прихожу к тюрьме и жду за углом, когда выйдет детектив. Я иду за ним до самого дома.
Я знаю, где он живет, чем занимается в выходные дни и что он прячет у себя в гараже.
И еще я знаю, что не смогу остановить его.