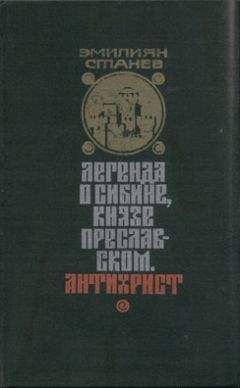Эмилиян Станев - Будни и праздники
— Они тебя бросят, — продолжал урод. — Говорят, она так решила, твоя жена. На что ты ей?
В маленькую, слабо освещенную корчму стучал ветер, и слова глухо отдавались, словно их поглощали беленые стены.
Грудь Андронникова сжималась от муки, к глазам подступили слезы.
Он поднялся и пошел к двери.
— Постой! — крикнул ему вслед хромой. — Ты попрошайка! — и добавил бранное слово.
Андронников вскипел.
— А ты блажной, богом обиженный. Придурок! Моя жена меня не выгнала. Я тебя знать не хочу!
Сорока вскочил. Его кривая рука яростно рассекала воздух. Он нелепо подпрыгнул и прошипел:
— Брешешь! Когда ты в суде был, на меня и не глядел, а теперь за одну рюмочку вокруг увиваешься. И рученицу будешь плясать, если я тебе велю. Убирайся! Я-то пойду к своей жене, а тебя выгнали, дурак ты набитый!
Андронников позеленел и полез было драться. Писарь лениво поднялся, чтобы встать между ними, но Андронников был уже у дверей.
На улице Андронников повернул было назад, но остановился и уставился в светящееся окно; он стоял без мыслей, сжимал челюсти и скрипел зубами. Высунув морду из-под ближней подворотни, на него яростно лаяла собака, и Андронников как бы потонул в этом истошном лае. И почему-то вдруг ему представилась крашенная в желтое кухня с почерневшими балками, в которые вбиты большие гвозди, и это видение, странно ясное, отчетливое и чем-то утешительное, пробудило в нем сладостное чувство умиротворения. Потом в голове у него мелькнула мысль о веревке и мгновенно перед глазами возникла серенькая связка, висящая на гвозде в подвале, — веревка, купленная в прошлом году для сушки белья.
Всю дорогу он как бы созерцал эти два видения и в таком состоянии пришел домой.
Он ступил в темную кухню, долго искал спички на полках и в шкафу, а когда нашел, отправился в комнату за лампой. Но дверь была заперта.
Андронников схватился за дверную ручку, целую минуту простоял в раздумье, не выпуская ее, и вдруг вспомнил, что на шкафу есть восковая свечка. Он нашел ее ощупью и зажег.
Огонек задрожал, трепетный свет пополз по стенам и озарил тесную кухоньку. С полок на него смотрели кастрюли и миски, уставились на него печка и маленькие трехногие стульчики. Предметы словно ожили, обзавелись глазами и зашептались. Потом Андронников спустился в подвал, взял веревку. Возвратясь в кухню, он прилепил свечу на шкаф, набросил веревку на гвоздь, сделал петлю и примерился. Потолок был слишком низким. Понадобилось укоротить веревку. Он принялся подгонять ее, но вдруг бросил. Руки его задрожали, колени подкосились, и Андронников сел.
Свеча горела уныло. Веревка над ним слабо покачивалась, а его тень, огромная, таинственная и страшная, колыхалась по стенам. Андронников думал о том, как его найдут утром, под самую пасху, окоченелого, как вынут из петли и начнут следствие и вскрытие: разрежут его, вытащат внутренности… а жена не будет плакать и через год выйдет замуж. Плакать будут только дети. Он ясно представил себе Сороку — вот он стоит перед следователем и рассказывает, как прямо в глаза ему, Андронникову, сказал: у своей жены, мол, кровь выпил — и все узнают, что в такой-то день он украл у нее деньги и плакал, чтоб она простила. Кто пожалеет, а кто и посмеется. И многое еще передумал Андронников и понял, что он не повесится ни сейчас, ни потом, оттого что боится смерти. И снова злоба стала грызть его душу.
_ К владыке ходила, а теперь заперлась, — сверлило у него в голове.
Свеча затрещала, упала со шкафа и погасла. В кухне стало темным-темно.
«Теперь уже не повеситься», — подумал Андронников с облегчением.
Он нащупал дверь и постучал. Кто-то проснулся в комнатке, зашевелился, и опять все стихло.
Рассыльный стучал все сильнее. Наконец забарабанил кулаками. Изнутри донеслось:
— Убирайся!
— Открой! — заорал Андронников.
Жена не ответила.
— Открой, Василка! — ревел Андронников. — Я повешусь, тебе говорю, уже веревку приготовил. Вот, посмотри!
— Вешайся! Мне какое дело, — ответила она и умолкла.
Андронников перестал стучать и дико огляделся вокруг, потом взревел в припадке ярости, толкнул тонкую сосновую дверь, сорвал замок и, прежде чем жена успела подпереть дверь спиной, схватил ее за волосы и свалил на пол. Он бил ее и душил в темноте, она кричала, дети проснулись и тоже закричали, потом он грохнулся на пол и исступленно зарыдал.
Идеи
© Перевод Т. Рузской
Писарь при налоговом управлении Скорешков сегодня был рассеян и сердит. Путал справки и препирался с посетителями.
Не дали аванса, хотя он два раза спрашивал у кассира. И жалованье в этот месяц опять не выплатили. С воскресенья Скорешков ходил без гроша, занимал деньги и стрелял сигареты у сослуживцев, к тому же он вконец оборвался.
Резиновый воротничок, купленный три месяца назад, оказался плох: пожелтел и потрескался в двух местах — как раз под подбородком, и Скорешкову пришлось стянуть его нитками. Единственная крепкая рубашка от постоянной стирки вылиняла. Желтый цвет выглядел серым, а рубашка — грязной.
Скорешкову казалось, что посетители косятся на его растрескавшийся воротничок и тайком его разглядывают, пока он пишет. И в последние дни он стал наклонять голову, будто его, как лошадь, тянули за повод, — чтобы прикрыть небритым подбородком рваное место. От этого у него заболела шея. Гнилой зуб — словно он только того и ждал — стало дергать, отдавая под самый глаз.
Скорешков верил, что сегодня-то он непременно получит деньги, купит себе рубашку и воротничок и тут же запломбирует зуб. Вечный стыд и безденежье ему осточертели. Всю неделю он с нетерпением ждал, когда же придет суббота, день выплаты. Но жалованья не дали. И это его обозлило.
Мало того, что Скорешкова мучили зубная боль и стыд, в это утро он еще и не завтракал.
В доме, где он жил с матерью и тремя детьми покойного брата, хлеба не нашлось: дети его съели. Надо было бежать к булочнику договариваться, чтобы он опять давал в долг, но Скорешков опаздывал на работу и отложил это важное дело на послеобеденное время. Теперь его терзал голод, и он совсем озлобился.
Около часу дня Скорешков уже собрался уходить, когда из соседней комнаты пришла машинистка Димчева и своим тягучим голосом пропела:
— А вы слыхали новость?
Димчева была сплетница, и Скорешков давно ее ненавидел. К тому же она его однажды оскорбила.
Скорешков с презрением отвернулся к окну и стал смотреть на улицу, где у противоположного здания маляры счищали с тротуара пролитую краску.
А машинистка рассказывала:
— Захожу я так в половине одиннадцатого к господину контролеру за ведомостью. Смотрю — а там начальник. Я так и обомлела… Коленки задрожали… А он и говорит: «Это вы и есть Димчева?» Да, говорю. «В архиве работаете?» Да, говорю. «Я, — говорит, — очень вами доволен. Самое главное, у вас красивый шрифт. И вы только одна у нас соблюдаете орфографию». Ну вот. Я постояла еще и послушала, о чем они разговаривают. Начальник и говорит: «Мне моего жалованья маловато. Теперь вот его увеличивают, будет посвободнее. Довольно я жался. Возьму отпуск и махну на море лечить свой ишиас». Уже есть такой приказ — начальникам жалованье увеличивают, а нам уменьшают, — закончила Димчева жалобным голосом.
Архивариус и делопроизводитель испуганно переглянулись.
— А я целых четыре месяца за квартиру не платил! — воскликнул архивариус.
Бледное, небритое и тусклое лицо Скорешкова задрожало. Эта новость оглушила его, как громом, и в нем вспыхнул гнев. Но почему-то в эту минуту Скорешков возненавидел не начальство, а машинистку.
— Чепуха! — задохнулся от злобы Скорешков. Зуб дернуло, и словно длинная игла вонзилась ему в мозг.
— Что чепуха? — спросил архивариус.
— Да вот… насчет жалованья! Она… кто ее знает… — злобно задыхался Скорешков.
— Почему чепуха? Похоже, похоже! — отчаивался делопроизводитель.
— Разумеется! — с нажимом сказал архивариус.
— Не может того быть! — рассердился Скорешков, позеленел и вскочил со стула. — И не говорите мне! Не может и не может! Никаких увеличений быть не может!
— А почему не может? — закричал и архивариус. — Раз говорят, значит — может!
— Наоборот, — замахал руками распалившийся Скорешков. — Большие жалованья уменьшат, а не увеличат.
— А вам, господин Скорешков, откуда это известно? — пропела, оскорбившись, машинистка. — Ко всякой бочке затычка! И чего вы из себя воображаете?!
Скорешков завопил:
— Кто затычка? Кто? Дура набитая! Не может того быть! Не может, и все!
— Как вы смеете меня оскорблять? — опять запела машинистка. Вместо ответа Скорешков схватил шляпу и выскочил вон.
— Не может и не может, — повторял Скорешков, спускаясь по ступенькам. — Как это уменьшат? Сам министр сказал: жалованье уменьшать нельзя. Врет эта сорока. Гусыня этакая! Распустеха! Мяучит, как киска, а когда я облил ее белые туфли водой, она меня так обложила… Сплетница. Все врет! Не может того быть!