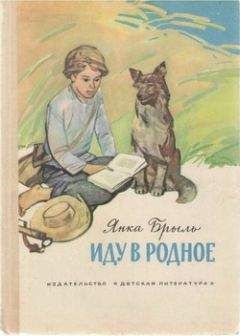Галина Шергова - Синий гусь
— Давай я куплю тебе цветы, — подмигнул я Зюке, — пожалуй, я подарю тебе вот эти. Идет?
— Нет, — Зюка покачала головой.
— Ну, давай — цветы, лавку, корзину на тротуаре, девочку и голубей.
— Нет, — повторила она. Потом сказала: — Кожаные коробочки продаются во Флоренции на Понто дель Веккиа.
— Какие коробочки? — не понял я.
— Кожаные. В них можно хранить письма.
Никогда я не понимал, как в Зюкиной голове рождались ассоциации. Может, их подсказывала удивительная ее память, собирающая все мелочи, все ничего не значащие слова и вынимающая их по недоступным мне поводам. Раньше это меня всегда ставило в тупик и раздражало. Я не люблю того, что мне недоступно. И того, что меня ставит в тупик, не люблю.
Сам не знаю, как это я вспомнил здесь «зеленые дебри Афин» — бог ты мой, когда я написал про них?
— Слушай, — спросил я Зюку, — а я очень постарел за эти годы?
— Постарел, — сказала она.
Вот чертова баба! Что ей стоило соврать, зачем нужно провозглашать бестактности? Да, собственно, и врать-то требовалось не слишком шибко: не только женщины, но и мужчины и сейчас вечно проходятся насчет моего «медального профиля» и «фигуры двадцатилетнего акселерата». Соврала бы чуть-чуть. Но она никогда не врала, вот в чем беда.
Мне захотелось сказать ей что-нибудь обидное, вроде того, что «да, времечко работает, и ты, моя прелесть, не та». Но она-то была та. Даже лучше, чем та. И хотя мне ничего не стоит сказать, что захочу, если угодно — соврать, я промолчал. Впрочем, я вру редко, не возникает необходимости. Просто говорю, что хочется.
За поляризованными смуглыми стеклами гостиничного номера четко рисовалась крестьянская шляпа Ликобетоса, но Зюка на спуске пропала.
«А жизнь-то — тю-тю! — подумал я. — Сколько же это лет прошло?.. Двадцать. Почти двадцать. Ей было двадцать три. А мне — тридцать три».
В сенях, где спала комендантша, зажегся свет, и сразу контур двери обозначился тонкой, как порез бритвы, линией. Постепенно свет за дверью усиливался, видно комендантша откручивала фитиль своей керосиновой лампы.
Там, у комендантши, было шумно. Наверное, шум возник еще до того, как она зажгла лампу, но меня разбудил именно свет.
На койке у окна поднялась фигура. Библиотекарша из Вялок села на кровати, и даже в темноте, разбавленной лишь слабым свечением окна, видно было, что она повернулась к двери.
А я лежал, не в силах окончательно выбраться из глубин сна. Там, во сне, все продолжал буксовать обкомовский «виллис», потом он глох окончательно и безнадежно, а мы с водителем пытались раскочегарить его. Потом я тащился по бесконечной снежной целине, нагрузив на себя аппаратуру — и камеру, и железный «яуф» с пленкой, и кофр со светом. И огни жилья передо мной все пятились и пятились, сколько бы я ни проламывал снежную ночь, пытаясь их достичь.
Но потом я все-таки входил в сени Дома колхозника, и комендантша откручивала фитиль керосиновой лампы.
Собственно, это даже не был сон. Просто события последних двух часов повторялись и повторялись где-то в недрах задремавшего мозга.
Комендантша была в валенках на босу ногу, из-под куцей ситцевой юбки тепло посверкивали коленки. Платок, который она набросила на голову, выходя отпирать мне, сполз за спину, комендантша держала его за один конец свободной от лампы рукой, зажимая платок вместе с тонкой растрепавшейся косицей.
Она спала тут же, в теплых сенях, спала, как спят в собственной избе, а вовсе не на дежурстве, и мне даже стало неловко, будто я вломился посреди ночи в чужой дом.
— Машина-то вроде не фырчала, и лошадей не слыхать, — она как раз не испытывала смущения, — а ты вон с какой поклажей.
— Машина сломалась в поле, — сказал я. — У вас переночевать можно?
— А как же, ночуйте. Ночевать и поставлены мы тут, — сказала комендантша. — Вещички вон в уголок ложите и ночуйте. Проведу сейчас.
— Нет, я возьму с собой, — я не рисковал бросать в сенях дорогую аппаратуру.
Свет лампы неуверенно наполнил пространство комнаты, отделенной от сеней дощатой, не оклеенной обоями переборкой. Довольно просторной комнаты, где одна к другой стояло штук десять железных коек, застеленных одеялами из шинельного сукна. Все койки пустовали, лишь одна, у окна, дыбилась лежащим на ней телом.
— Выбирайте коечку, — сказала комендантша. — Свободно нонче. Вон только библиотекарша из Вялок заночевала. Лекцию в клубе делала. Филимонов вперед обещался лошадь дать, а потом на ночь лошадь пожалел, говорит, как рассветет, навоз возить надо, говорит, молодая, днем и на своих ногах дойдет, тут, говорит, верст десять всего и ходу-то.
Фигура на койке у окна задвигалась, и я сделал знак комендантше:
— Ладно, ладно, я устроюсь. Еще разбудим.
Но комендантша не обратила на это внимания: она совсем проснулась, и ей хотелось поговорить с незнакомым человеком.
— Одеялки тоненькие, вы с другой коечки еще возьмите. Я свое-то библиотекарше отдала, она непривычная. — Комендантша кивнула лампой в сторону спящей, я увидел, что она действительно укрыта ватным лоскутным одеялом. Во взмахе лампы я даже успел разглядеть, что некоторые лоскуты, из которых сшито было одеяло, — куски чьей-то старой плащ-палатки с сохранившимися на них пятнами камуфляжа.
— Ладно, не беспокойтесь. Я устроюсь, — сказал я.
Она пошла было к двери, но остановилась:
— Вам, может, как приезжему стеснительно, что вместе с женщинами. Некоторые из города указывают. А что делать-то? Помещения нет. Я занавесочку вешаю: тут мужчины, тут женщины, — она показала на веревку, натянутую под потолком. — Только я сняла постирать. Руками очень захватывают, даже спать неприятно. Ну, спите с богом.
И я заснул.
«Порез от бритвы, кровоточащий по краям», — опять подумал я, глядя на дверь и делая усилия выбраться из сна. Дался мне этот порез. Но тут сразу, не постепенно, желто-красные полоски слились в продолговатое пятно — дверь распахнулась, впустив отчетливый гул голосов из сеней.
В дверном проеме возникла, заполнив его почти полностью, обширная бесформенная фигура. Но все-таки с боков ее оставались еще светлые промежутки, и в них одна за другой посыпались фигурки крошечные, детские. Они все сыпались и сыпались, и конца им не было, они заполняли узкие проходы между койками, как вода, прорвавшая плотину.
— О, чудо! Невероятно — даже кровати! — воскликнул низкий грудной голос возле моей кровати.
— Привал, братцы, привал, — подхватил голос мужской, хотя никакие мужчины в комнату не входили.
— А реквизит? Петр Петрович, пусть мужчины таскают реквизит! — крикнул еще кто-то. И все дети загалдели: «Реквизит, да, да. И личные вещи. Все осталось на крыльце».
— Сейчас несут, — откликнулся тоненький детский дискант.
— Посторонись, — в комнату вошла комендантша с лампой, и в жирном ее свете мне явилось зрелище непонятное и фантастическое: странные дети — мальчики в пальто, сшитых по-взрослому, девочки с накрашенными губами. И у всех детей эти смазанные тусклым светом лица-блинчики были неуловимо похожи и неправдоподобны.
Видна стала и фигура, заслонявшая дверной проем: могучая женщина в старой беличьей шубе, вытертой на груди до кожаной основы. Блестящие эти кожаные латы воинственно оберегали монументальность стоящей. Лицо ее, молодое и румяное — единственное, — не утрачивало и в рыжем керосиновом мерцании яркой свежести.
— Располагайтесь, ребятушки, — сказала она, и я понял, что тоненький дискант как раз принадлежал ей, — кроватей мало, так что по двое, по трое. Девочки с девочками, мальчики с мальчиками.
— Я лично — с девочками, — хохотнул мальчуган, по голосу тот, что возвестил: «Привал, братцы, привал».
— Уймись, Серега, — мирно сказала женщина, — устали все.
Комендантша захохотала, лампа в ее руке запрыгала, свет швырял туда-сюда желточные лица-блинчики, они сжимались и расплывались, румяное солнце над беличьей шубой зорилось лубочной улыбкой, и весь кукольный этот маскарад, мелькнув мимо моих глаз, ушел в пляску камуфляжных пятен на лоскутном одеяле у окна: я заснул.
Серый рассвет только тяжело навалился на маленькие окна. Светлее от него почти не стало.
Я вышел в сени, выстудившиеся за ночь, увидел в углу железный рукомойник над ржавым ведром, подергал рукомойник за хоботок. Скудная холодная струйка наполнила ладони. Я приложил воду к лицу, вытер его носовым платком.
Комендантши в сенях не было — на ее койке валялся залоснившийся армейский полушубок. Приоткрыв дверь на крыльцо, я увидел, что возле поленницы комендантша в одном своем коротеньком ситцевом платье колет дрова. Поленья взвизгивали под колуном, как девчата на гулянке — коротко и бойко и со вздохом валились в снег.
— Помочь? — крикнул я комендантше.
— Сами, — она махнула над головой колуном. — Нам гимнастика. А вам куда ехать-то?