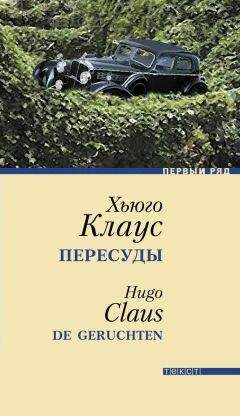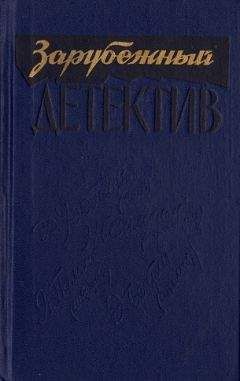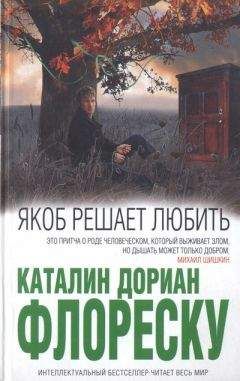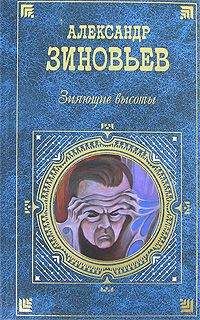Клаус Мерц - Якоб спит
Иногда над сточной трубой всплывали красные животы тритонов и тоже приводили его в ужас. Водомерки задевали его тонкими длинными ногами, а иногда на белой коже оставляла ожог саламандра.
У нас в родне брата называли Солнышко.
Он не закричал, когда рядом с ним всплыла рыжая кошка. Это я утопил ее, чтобы освободить его от злости, которую он никогда не мог излить на нас. А мы — на него.
Любовную беседку мы называли Восток.
4
Франц, сунь руку в огонь, пусть она нам посветит!
По неосторожности Франц, играя с ножом, острие которого он пропускал между растопыренными пальцами руки, как барабанную палочку, уже лишился мизинца. С тех пор он с еще большим рвением совал в огонь свою «аварию» — так он это называл.
Он вылил на палец керосин и поджег его своей зажигалкой. Мы испугались и расхохотались, он тоже рассмеялся и быстро сунул горящий палец в карман своего синего комбинезона, чтобы сбить пламя, одновременно свободной рукой вытащив из левого уха зажженную сигарету. Парни-шорники пришли в восторг.
Тот, кто никогда не видел, как Франц разгуливает на руках по нашему дровяному сараю, кто никогда не встречался взглядом с морской русалкой, обвивавшей своими чернильными руками его берцовую кость и медленно уплывавшей вверх под закатанной штаниной, тот не принадлежал к избранному кругу посвященных. И для такого олуха не было места на заднем сиденье его «харлея». В хорошие дни Франц выкатывал свой драгоценный мотоцикл из мастерской на солнце, дабы мы, самые отважные и самые обремененные жизнью, смогли воспарить на его роскошном сиденье, освобождаясь от всех земных тягот и забот.
Клейма счастья — вот что украшало наши бедра и лодыжки, когда на длинном вираже за сыроварней Винона, уступая центробежной силе, мы прижимались обнаженной плотью к горячим выхлопным трубам.
Только дома наше счастье снова оборачивалось болью, раны саднили. Их смазывали сливочным маслом и строго-настрого запрещали нам дурацкие бешеные гонки.
5
За этой широкой спиной царил темный вакуум, пахнувший кожей. Мимо моих острых голых коленок проносился асфальт со шрамами травы. Сверкали крышки канализационных люков. Теперь руль тяжелого мотоцикла держал в руках мой тридцатидвухлетний отец.
Пейзаж, в который мы въезжали, пульсировал, как открытый родничок. По краям он отсвечивал красным. Какой-то пьяный крестьянин пер в своем «форде» прямо на нас. Отец свернул на обочину, затормозил. Из открытого багажника «форда», продолжавшего чертить зигзаги, выплескивалось молоко.
Мы вроде как почти спаслись, сказал я отцу. Что-то в этом тезисе показалось ему ошибочным, но он не стал поправлять, поднял меня на руки и прижал к груди. Тяжело дыша, мы уселись рядом на скошенной траве.
Гидроцефал. Круглое, волосатое, безногое насекомое, величиной с груженный сеном воз, двигалось с морены через поле нам навстречу. Мы поехали дальше.
Я пытался представить себе своего младшего брата, чья голова, как нам сказали, росла слишком быстро. Встревоженные этой чрезмерностью, мы мчались по долине вниз, панически и одновременно титанически врастая в стремительно сгущавшиеся сумерки. В столице кантона как по команде зажглись огни.
Когда мы вошли в больничную палату, брат спал. Его шаровидная головка лежала на белой подушке и не знала о себе ничего. И я тоже не видел того, о чем знал. Только позже прагматичная жизнь научила нас, что значит слово «водянка».
Я обернулся к маминой кровати. Мама лежала в луже боли и тянула ко мне руку. Я не снял своего кожаного шлема.
Отчаяние постепенно наполняло палату электричеством, в наших глазах вспыхнул зеленый свет. Сверточек проснулся.
Вместе
мы его потянем,
назло всему свету, — сказал отец.
Когда мы вернулись домой, гладильщица все еще стояла у своей доски и крахмалила наши воротники. Нам предстояло высоко держать голову.
6
Мы использовали второй этаж нашего дома только для сна, во время болезни и по большим праздникам. Все остальное время мы проводили на нижнем этаже. В пекарне, на кухне, в лавке. И в комнатушке рядом с лавкой, с узорами инея на окнах.
Летом на подоконнике цвели пышущие здоровьем герани. Потому что у мамы были «зеленые» руки. И эти растения, такие зеленые, красные, роскошные, были другой стороной ее жизни. Все, к чему она прикасалась, пускало корни, расцветало, приносило плоды и сияние в ее потухшие глаза. Вместе с зимними астрами сияние снова исчезало.
Нашу комнатушку отец упорно называл «конторой», так как в заднем ее углу стоял его письменный стол, а в самом верхнем ящике стола лежали голубая амбарная книга, счета и квитанции.
Его стол служил нам чуланом для одежды, писем, макулатуры, школьных мелочей. Между ластиками, бабушкиными пинцетами (для росших на подбородке волос), кнопками и карандашами копилась пыль.
Мы сидели за раскладным столом, лежали на обтрепанной кушетке, прямо у нас над ухом гремел громкоговоритель, вещавший программу местной радиостанции «Беромюнстер», — и все ради того, чтобы не беспокоить клиентов за дверью, которую всегда только притворяли и никогда не запирали.
Иногда в нашу комнатушку втискивался запыленный торговец мукой, продавец шоколада или яичный поставщик. А бывало, что мать разворачивала перед нами красивые ткани ручной работы, привезенные тихим приезжим из Северной Швейцарии. И оживала.
На свои гроши, выкроенные из хозяйственных денег, мама украшала дом и рождественский флигель, покупая каждый год то еще одну подушку, то скатерть, то новые занавески каштаново-красного цвета.
А отцу она по вечерам повязывала какой-нибудь изысканный галстук. Он редко носил их, хотя и любил. Пастельные тона без блеска, но полные тепла.
В конторе даже нежданных гостей потчевали сластями. Родные и близкие так и набрасывались на пирожки со сладкой начинкой. К ним подавался черный чай, приправленный испанским вином.
Терпеть не могу этой смеси, говорила Бреттшнайдерша и наливала себе одно вино прямо из бутылки, оставляя внукам чай и пирожки. Она разговаривала руками, коричневыми от табачного сока. И умела скручивать сигары быстрее всех в округе. И тараторила так же быстро. Как пулемет.
Но в тот день, когда Франц с трудом втащил в контору «блаупункт», даже у нее слова застряли в глотке. Он приобрел этот кадиллак среди радиоприемников для нас, на распродаже, и успел перевести программу «Радио Люксембург» прежде, чем включить аппарат в сеть и поставить на стол.
За бежевой тканью угадывался огромный пузырь усилителя, а клавиши напомнили яичному поставщику Францеву фисгармонию с клавиатурой из слоновой кости. Он заорал что-то в том смысле, что теперь можно музицировать, даже имея совсем короткие пальцы, но Франц стряхнул его руку с клавиш и зачитал нам вслух перечень радиостанций Европы так торжественно, словно декламировал поэму.
Левой рукой он подкрутил тумблер настройки. И только после этого одним легким движением вскрыл череп аппарата. В правом углу действительно подрагивал самый настоящий граммофон. У Франца нашлась даже пластинка.
На черном диске имелась надпись «Брунсвик», таков был синоним счастья, от которого закачался пол нашей комнатенки. Хриплый голос черного трубача в одно мгновение изгнал из конторы табачную тетку с ее тремя внуками и еще теснее сплотил нас.
On the sunny side of the street…
Отправляясь в дальний путь… — верещала на тирольский лад, демонстративно удаляясь, тетка.
Только вечером, когда зашло солнце, мы снова настроились на новости местной радиостанции «Беромюнстер». Соседи уже давно отправились на боковую, а мы все еще прислушивались к эху знакомых голосов, внушавших такое доверие…
Теодор X. из Лондона,
Ханс О. из Парижа,
Хайнер Г. из Нью-Йорка…
Их интонация сформировала и надолго закрепила в наших крестьянских головах представления о большом, широком, открытом мире, о далеких городах и конфликтах.
Большим и указательным пальцами Франц зажимал переносицу: чтобы лучше вас слышать, говорил он, глотая какую-то таблетку. Против тяги к дальним странствиям и боли.
Солнышко, мой младший брат, проводивший в бездействии долгие утренние часы, первым без памяти влюбился в ультракороткие волны.
Из-за модных шлягеров и заводного американского и немецкого рок-н-ролла, который иногда просто срывал его со стула, он уверовал и в рекламу пылесосов северных соседей.
Но это произошло намного позже, чем бабушка окончательно прекратила борьбу против растущих на подбородке волос и стала богомолкой о здоровье.
7
После птиц и рыб дед решительно переметнулся к пчелам. Вы должны есть мед, дети, говорил он. Я сделаю его для вас.