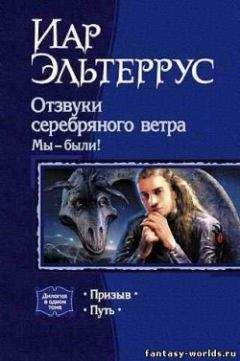Анри Монтерлан - Благородный демон
…Багатель. Может быть, эти долгие часы в саду и есть самое лучшее в жизни. Здесь, по крайней мере, не так тяжелы веки. И пусть мне не говорят о восхитительных созданиях. Теперь я упиваюсь избавлением от них и сегодня принадлежу только цветам и листьям, которые не обременяют меня своей любовью. Я наслаждаюсь вкусом этого часа, когда пресыщенная душа мечтает испытать новую жажду.
Но совсем иное расположение духа у моего дражайшего коллеги Пьера Косталя, черт бы его побрал! Я вижу его в аллее рядом с очень красивой девушкой в глубоком трауре; наверно, эта юная особа потеряла отца или мать — просто подарок судьбы для альфонсов. Какой женщине в подобном положении не нужно утешение? Косталь вещает, словно дает интервью прессе. Она идет рядом (у нее красивый длинный и столь естественный шаг…), глядя на носки своих туфель. Я уже в трех метрах от них. Хорошо бы подслушать какое-нибудь слово, которое можно использовать против него. Но они останавливаются под каменной аркой. Он обнимает ее. Слышно только: «Клок… клок… клок…» Я вспоминаю юношеское стихотворение Косталя:
Поцелуи влюбленных —
Это навозные лепешки,
Роняемые коровами.
Раньше подобное сравнение совсем не поражало меня. Ну что ж, дражайший коллега, пожалуй, так оно и есть.
Ладно, оставим это. А оружие против него в его же писаниях. Согласен, он талантлив. Но, тем не менее, тут ничего не сделаешь, раздражает меня. Как я к нему отношусь? Жду его смерти.
Два часа. В саду снова много людей. Словно микробы распространились по здоровому организму. Хочу пойти вон туда, но вижу там какого-то человека. Возвращаюсь, однако и здесь люди. Я в ловушке. Даже на той стороне, где вроде бы никого нет, кто-то свистит за кустом и, оставаясь невидимым, навязывает мне свое насквозь вульгарное понимание мира. Со всех сторон идут люди. Совершенно непохожие на меня. Что они со мной сделают, если поймут это? Я вспоминаю о тех маленьких лесных божках, которые еще сохранялись на земле некоторое время после появления христианства. Никакой другой миф не трогал меня до такой степени.
Прежде чем выйти, я подбираю гладкий камешек, свежий, словно юношеская шея. На память о саде. Хотя и сам не знаю зачем, ведь уже через три минуты я выбросил его. Может быть, именно для этого.
Прохожу мимо красивой девушки, сидящей около сочно-зеленого газона. Она курит и читает. Мое размокшее лицо снова напрягается. Выступают морщинки, которые разглаживал свет, проникавший сквозь листву. Надо возвращаться к людям. К людям и к ненависти.
Позавтракав с Соланж в загородном ресторане, Косталь отвез ее в Багатель.
Уже при второй встрече, в мае, он сказал ей, что не понимает, как такая красивая девушка все еще не замужем. Ответ: уже было несколько предложений, но она выйдет лишь за того, кто ей понравится. Косталь понимал, сколь неосторожно первым заговаривать о женитьбе, но спросил ее по своей склонности быть неосторожным. Сенека, как известно, называл женщину animal impudens[3]. Добавьте одну букву и получится определение мужчины: animal imprudens[4]. Впрочем, о замужестве уже больше не вспоминали.
Сегодня он опять вдруг вернулся к этому:
— Женитьба без развода, по-христиански, что может быть более чудовищным для мужчины? Это воплощение противоестественности. Привычное утомляет натуру мужчины. Да еще хотят, чтобы он оставался верен женщине, которая с каждым месяцем хотя бы чуть-чуть, но все-таки теряет свою привлекательность. В пятьдесят пять муж, если он не опустился, все еще в расцвете сил. Только из порочных склонностей его может удовлетворить пяти десятилетняя жена. И когда он следует своему долгу, природа противится, возникают неприятности со здоровьем. Все разумные врачи советует мужчине в этом возрасте, если у него сохранился темперамент, изменять жене. Христианский брак противоречит и разуму, и природе. Впрочем, в этом и есть сам дух христианства: quia absurdum[5]. Получается, будто «ревнивый» бог хотел сделать человека несчастным и лишил его разума, чтобы он добровольно стремился к самому несчастному положению. А что до меня, то скажу вам предел того возраста, при котором женщина еще желанна для вашего покорного слуги, где-то около двадцати шести лет. Ну, а с каких лет это начинается, лучше умолчим. Один старинный арабский натуралист, считающийся классиком, пишет, что заяц меняет свой пол каждые шесть месяцев. Для меня женщина в двадцать шесть или двадцать семь лет меняет пол и перестает быть женщиной, превращаясь во что-то совсем другое, уже не вызывающее желаний. После замужества она может перемениться также и нравственно, как изменяется физически, стать совсем иным существом, подобно юноше шестнадцати лет, который уже не тот мальчик, что был в четырнадцать. И тогда приходится плыть в полную неизвестность.
Маленькая девочка спрыгнула со скамейки, быстрая, как вспорхнувшая птичка.
Сколь бы непрестанно ни вертелась в уме Соланж мысль о замужестве, она все-таки была совсем не готова отвечать какими-то разумными доводами, а лишь слушала с натянутым лицом, не произнося ни слова. Он продолжал:
— Обыкновенный человек еще может жениться. Но сколько-нибудь выдающийся — это уже опасно! Великие люди никогда не говорили о своих женах, ведь они источник забот, а у человека исключительного ум должен быть свободен. К примеру, писатель. Ему необходимо дозировать впечатления от жизни, по своему желанию открывать и закрывать то кран «жизнь», то кран «труд». Один[6] говорил приблизительно так: «Мне нужны плоские дни, настолько пустые, что даже любовь и дружба помешали бы им». Именно такие пустые дни и созданы для размышлений и творчества. И, конечно же, не постоянная пустота, как того хотел Флобер. Такие дни должны приходить в свое время. Именно тогда нужно быть совершенно независимым, тем более нельзя жить вместе с кем-нибудь. Творец должен научиться забывать и жену, и детей. А это невозможно. И потом жениться, чтобы забывать о том, что ты женат, — зачем? Я три раза жил с женщинами. Со всеми тремя я быстро порвал. Это происходит почти автоматически, как с другом, которому одолжил деньги. Кроме того, для меня невыносимо ощущение, что ты на привязи. Уехать за границу, в дальнюю экспедицию, скрыться в монастырь — все это, может быть, и не нужно мне. Необходимо лишь чувство возможности, отсутствия препятствий. Закрепление на каком-то месте просто убийственно. Во мне есть только одно постоянство — это мое творчество. Для меня в тысячу раз лучше побочный ребенок, чем законный, любовница, чем жена, потому что я бешусь от этой законности и принудительности отношений.
— Но допустим, как крайний случай, что человек, подобный вам, может обойтись без женитьбы. Однако более серьезным мне кажется отсутствие ребенка, особенно, как в вашем случае, когда нет ни брата, ни сестры.
— Если бы я вздумал говорить с вами повычурнее, то сказал бы: моя жена — жизнь, а рождаемые ею для меня дети — мои книги. В этом же духе Баррес как-то сказал о Наполеоне: «Победы — это его дочери». И, благодарение небесам, у Наполеона не было другой семьи! Наконец, еще одна причина, почему у меня никогда не будет сына (о дочери и говорить нечего — я просто повесился бы). По моему убеждению, в нынешнем мире невозможно воспитать сына таким, каким хочешь его видеть. Рано или поздно, но наш позорный век все равно сказался бы на нем. И что бы я делал с сыном, который вызывает во мне презрение? Возненавидел бы его лютой ненавистью. И, кто знает, может быть, дошел бы даже до желания уничтожить его. Поэтому-то я и не хочу идти на столь большой риск.
Именно так оно и происходило на самом деле. В восемнадцать, когда родился Филипп, у него еще не было ни книг, ни достаточной опытности, ни твердости, чтобы возможный риск мог остановить его. Правда, по воле случая с Филиппом все обошлось. Однако чудеса повторяются редко.
— И все-таки очень многие восхваляют брак, даже люди известные (она путала знаменитостей с исключительными личностями!).
— Слабохарактерные и простоватые всегда превозносят его. Обратите внимание, самые яростные защитники брака (на словах) — чаще всего самые неудачливые. Они прикидываются безмерно счастливыми из боязни, что их разгадают и пожалеют.
— Пока вы еще молоды. Но ведь может наступить такое время, когда захочется иметь возле себя человека, который разделил бы с вами часы уныния и бед.
— Это чисто обывательское представление. Вы думаете, что у человека обязательно должны быть часы «уныния». Поверьте, есть люди, которые не только не знают, что такое «уныние», но даже не могут и вообразить ничего подобного. У меня, к примеру, никогда не было ни малейшей потребности в чьей-либо поддержке (конечно, за исключением телесных недугов). Я вполне самодостаточен в своем творчестве, это буквально мое здоровье, оно и спасает меня, и дает мне отдых. И нет ни малейшего желания быть вдвоем. Точнее, только в одном, одном-единственном случае мне нужно еще одно существо, кроме меня самого, — для телесного наслаждения. Во всем остальном, стоит только представить себя с кем-то, и я как будто уменьшаюсь, съеживаюсь. Но, предположим, наступит трудное время, тогда я найду успокоение в поучениях великих мудрецов или в сексуальности — сильнейшем из утешений, но, насколько мне известно, для этого совсем не обязательно иметь жену. По правде говоря, я не могу понять, чем другим может утешиться молодая женщина, если не своим телом! Уж не «духовным» ли общением? Ни в коем случае, я презираю брак между несчастными, которые не способны в одиночку справляться с «тяготами существования», этими трясущимися бродяжками, согревающими друг друга… Но, раз так, тем лучше, не будем кидать камни в то, что облегчает жизнь. Вернемся к началу — все это для людей заурядных.