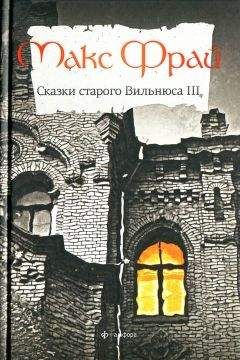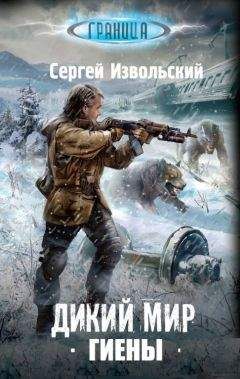Анхелес Касо - Навстречу ветру
— Ты никогда нас не любил, — заявила я, — ни маму, ни своих детей. Ты всех нас сделал несчастными. Мы тебе ничем не обязаны. Не жди, что мы будем тебя оплакивать.
Миллионы раз я жалела на протяжении всей своей жизни о тех словах. Мне всегда было обидно, что я поддалась тому приступу жестокосердия и толкнула отца в полном одиночестве к вратам смерти, и эта ужасная мысль пульсировала в его голове вместе с последними ударами сердца. Мысль о том, что он прошел по жизни, словно нелепая тень, и никто не будет тосковать по нему. Но тогда единственное чувство, на несколько мгновений посетившее меня, было чувство безмерного облегчения.
Что чувствовал отец, я не знаю. Его зрачки расширились, и мне показалось, что по его телу пробежала легкая дрожь. Содрогание на несколько десятых секунды. И больше ничего. Он тут же оправился и сказал мне таким же спокойным тоном, каким я только что говорила с ним:
— Жизнь — тяжелая штука. Так бывает. Не думай, что я сокрушаюсь из-за того, что вы не будете меня оплакивать. Я никогда на это не рассчитывал.
Я вышла из палаты и оставила отца одного. И заплакала. Я проплакала до самого утра из-за того, что сказала ему, но в основном потому, что его это не тронуло. Я плакала из-за одиночества и страха, на которые меня обрек отец, из-за смерти подсевшего на иглу брата Эрнесто, из-за больного алкоголизмом Антонио, из-за сентиментальных переживаний Мигеля. И еще из-за маминой неизлечимой грусти.
Мама не всегда была грустной. По крайней мере, так говорила бабушка. По ее рассказам, мать с детства любила петь, как и бабушка, была веселой, лазала по деревьям, как обезьянка, носилась по полям и звала коров, выкрикивая их клички и вприпрыжку взбираясь на холмы. Она могла бы найти свое счастье рядом с любым мужчиной из округи, поскольку была работящей и нежной, как женщина, и выносливой, как парень. Но однажды летом, когда маме было шестнадцать лет, появился он, мой отец. Ему тогда было около тридцати, он был хорошо одет, располагал большими деньгами, заработанными за счет коммерции в Мексике, куда он переехал со своей семьей еще ребенком. Отец вернулся, чтобы открыть скобяную лавку в городе и создать семью. И он решил создать ее с моей матерью.
Причина, по которой такой серьезный мужчина, огорченный, как его называла бабушка, выбрал самую веселую девушку в округе, для всех осталась загадкой. Возможно, он не мог вынести ее веселья и хотел с этим покончить, как убивают птицу, которая надоедает своим пением в саду. Есть настолько испорченные люди, которые испытывают ненависть ко всем, кто излучает жизненную силу и радость. И вместо того, чтобы просто держаться подальше, эти люди расставляют свои сети и охотятся на них, а потом хоронят их под тяжестью земли только ради извращенного удовольствия наблюдать за смертью всего того, что они так ненавидят. Наверное, это и было причиной.
Но еще более загадочно то, что мама приняла это. Почему? Не знаю. Не думаю, что она вышла замуж по любви. Шестнадцатилетняя девушка, обожающая танцевать в зарослях вербены, купаться в реке и нестись, словно безумная, под гору на велосипеде, не влюбляется в таких, как мой отец. Он расхаживал по деревне в костюме с галстуком, ворчал на всех, кто ему попадался, вместо того чтобы здороваться, и смотрел на них жестким, словно гранит, взглядом. Даже не было того, что бабушка называла ухаживаниями. Ни цветов, ни улыбок, ни предполагаемых случайных прогулок до дома, ни долгих бесед под балконом в свете садящегося за холмами солнца или под струями проливного дождя, заливающего огород. Два или три разговора возле церкви, пара прогулок во время церковных праздников, и вдруг он явился просить руки моей матери. Дедушка с бабушкой пытались уговорить ее ответить отказом. Им не нравился богач из-за океана, несмотря на пачки его денег. Но она уже решилась, и не было возможности переубедить ее.
Было ли это из-за денег? Я никогда не замечала, чтобы маму они волновали. Ее не привлекала ни роскошь, ни удобства. Да, всю жизнь она прожила в хорошем большом доме, который отец, вернувшись из Мексики, купил там, где раньше был пригород, но она никогда не просила помощи, чтобы следить за жилищем и ухаживать за нами. Никогда у мамы не было служанок, ни помощниц, ни драгоценностей, ни мехов. Даже получив наследство, она жила по-прежнему, уже одна в доме, и не позволяла себе никаких трат, кроме самых необходимых. Но, может быть, ее не интересовали деньги как раз потому, что они принесли ей несчастье, когда она их пожелала. Возможно, правда в том, что именно этого она хотела. Может, отец ей шептал на ухо обещания красивой и приятной жизни. Он мог сказать маме, что ей не придется больше доить коров, кормить кур, полоть огород, собирать яблоки, готовить кровяную колбасу после забоя скота. Наверное, у мамы было какое-то тайное стремление, и ей хотелось наряжаться в красивые платья и туфли на каблуках, красить губы и ходить каждую неделю в парикмахерскую. Может быть, она хотела путешествовать, объездить весь мир, увидеть все, что находится за зелеными холмами, окружавшими ее родную деревню, — бескрайние моря, сверкающие огни городов, степи с бесконечными равнинами и высушенной оранжевой землей… Кто знает, какие глупости могут взбрести в голову шестнадцатилетней девчонке?
Думаю, мама никогда мне не расскажет. Я ни разу не говорила с ней об отце. Он умер, она оделась в траур — без слез, как я и предполагала — и ходила на непременные церковные службы. Мама опустошила шкафы, разобрала бумаги, выставила на продажу скобяную лавку, но так ни разу и не упомянула отца. Словно его не существовало, или как будто это был секрет, которым маме не хотелось ни с кем делиться: ни о том, какие иллюзии она питала, ни что, как ей казалось, мог предложить этот мужчина, ни когда стали рассеиваться цветные мечты, которые загорелись тем летом. Ни о том, как она научилась мириться с этой неудачей и жить в этом пузыре сожаления, эта певучая и веселая девочка.
Я никогда не была уверена, что хуже: так и не достичь блаженства или познать его на мгновение и затем потерять. Когда Пабло бросил меня, и мир рухнул, я прокляла праздник, на котором Элена нас познакомила, ослепительную ночь нашего первого поцелуя, день, когда мы решили пожениться. Я бы отдала все на свете, чтобы не пережить всего этого и чтобы не тосковать по нему. Мое прошлое было бы спокойным, чистым, стерильным, словно тихая больничная палата. Без иллюзий, без эмоций. Тогда не было бы разрыва, и та самая огромная черная птица, преследовавшая меня, не настигла бы меня, и я бы не чувствовала, будто бегу, объятая ужасом, по пустоши. Я бы вела одинокую и скучную жизнь, но не познала бы этой боли. Долгое время я цеплялась за мысль, что годы, прожитые рядом с ним, — потерянное время. Что вся моя жизнь с ним, вся моя любовь к нему — чудовищная ошибка, неудачное здание, от которого остались только зловонные развалины, заполненные мочой, экскрементами и сорняками. Нечто, что никогда не должно было родиться.
Но теперь, когда я уже привыкла думать об этом как о чем-то далеком и чужом, когда боль не витает вокруг, охватывая все, и воспоминания стерлись, оставив толстый слой пепла, под которым, хоть не без труда, я еще могу дышать, я рада, что мне довелось пережить то, что было. Иногда даже на какое-то мгновение я чувствую гордость за свои чувства. Как будто огромная золоченая рама подчеркивает мою огромную любовь к нему. Порой по ночам, когда я ложусь в постель и все еще замечаю его отсутствие, неутешительный холод, навсегда отметивший его уход на половине матраса, его половине, на которой он никогда не спал, теперь я думаю, что мне повезло познакомиться с ним и полюбить его, и быть им любимой. И тогда, объятая тоской, я мечтаю, чтобы воспоминание о нем вернулось ко мне в последнюю минуту, и чтобы его лицо, улыбающееся, смотрящее на меня, приближающееся, чтобы поцеловать, юное и любимое лицо стало последним, что я увижу в своей жизни.
Не знаю, помогло ли моей маме то, что в детстве она была счастлива. Или наоборот, все необыкновенные моменты ее детства и отрочества, радость, которую она чувствовала в те славные годы, стали причиной безусловной тоски, превратились в тяжкое бремя, которое, как камень, привязанный к шее, бесконечно тянуло маму ко дну ее собственной пропасти. Наверное, она всегда жалела о том, что приняла предложение отца тем летом, может быть, она тысячу раз представляла себе, как сложилась бы жизнь, если бы она вышла за какого-нибудь местного крестьянина. Или ни за кого бы не вышла, осталась бы навсегда свободной и жила бы среди липкой дорожной грязи и солнечного света, опаляющего вершины. Носила бы потертый фартук и вечные резиновые сапоги, вставала бы до рассвета, чтобы подоить скотину, и ложилась бы обессиленная, среди запаха удобрений и пестицидов, но зато беззаботно распевая и гуляя по холмам, с гордостью называя коров по кличкам, плескаясь, словно глупая нимфа, в прозрачной воде огромной лужи…