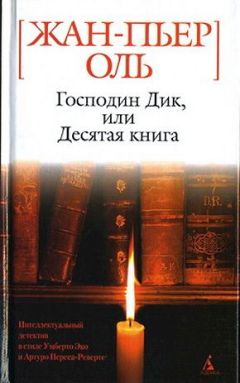Катрин Панокль - Мы еще потанцуем
И вот… В один миг… я уже не боюсь. Ни мух, ни слонов. Как же здорово жить без страха!
В общем, нынче утром Клара Милле открыла глаза под звуки радиобудильника: Марк Броссе поставил его на без двадцати семь. Как всегда, когда ночевал у нее. До семи еще двадцать минут, за это время можно поласкаться, ткнуться холодным носом в ее теплую шею, просунуть левое колено ей между бедер. Клара спит на правой стороне кровати, свернувшись калачиком, Марк Броссе — на левой, тоже калачиком. Так у них заведено.
Она слышит будильник, слышит песню, вслушивается в слова. Она часто слышала эту песню, но сегодня, сонным декабрьским утром, незадолго до Рождества, когда на улицах еще темно и вот-вот по помойкам поедут мусоровозы, она вдруг вслушалась в слова. Ни единого лучика не проникает сквозь ставни, которые Марк Броссе закрыл вчера, аккуратно сложив рубашку и брюки и повесив их на кресло возле кровати. Накануне они ужинали у его родителей, Мишеля и Женевьевы Броссе, школьных учителей на пенсии. Клара Милле порой думает: может, в любовниках ей больше всего нравятся их родители? Она к ним не на шутку привязывалась, каждое расставание усугублялось семейным разрывом, а иногда его перенести тяжелее всего. Впрочем, она каждый раз умудрялась сохранить хорошие отношения с родителями своих бывших и в результате собрала целый отряд бывших свекровей и свекров (что довольно странно для девицы, ни разу не выходившей замуж), которых время от времени навещала.
Она слушала слова песенки Бьорк и чувствовала прильнувшее к ней тело Марка Броссе, чувствовала его колено у себя между бедер. «You fall in love ZING BOOM, the sky above ZING BOOM, is caving on WOW BAM, you’ve never been so nuts about a guy, you wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die»[2]… и она сказала себе, что никогда не хотела бы умереть за этого мужчину, чья опытная рука проскользнула между ее ног и начала ласкать. Конечно, подумала она, Марк Броссе хороший любовник. Он знает, что надо подготовить партнершу, надо обращаться с ней осторожно и ласково, не бросаться на нее, как оголодавший дикарь. Потому-то он и ставит будильник на шесть сорок. Он — отличный любовник, и родители у него славные; вчера Женевьева Броссе ради нее приготовила лосося в клюквенном соусе с молодыми кабачками и базиликом, да, конечно, но вот что-то не заводят ее пальцы Марка Броссе, так умело ласкающие ее между ног. Честно говоря, они ее раздражают, и в ней поднимается так хорошо знакомая ярость.
Еще вчера она любила его. БУМ. А нынче утром уже не любит. ДЗЫНЬ-БАМ. Она любит другого. Того, кто убегает, стоит ей подойти поближе. Того, чье имя она не решается произнести в полумраке комнаты, чтобы не разрыдаться. Не надо смеяться, не надо плакать, надо понять, говорила бабушка Мата, когда к ней в слезах прибегал кто-нибудь из ребят, чтобы его пожалели.
Начнем с того, что она никогда и не любила Марка Броссе. Ценила его, да, хотела его распробовать, уцепиться за его руку, чтобы он ее вытащил. Но никогда не хотела умереть за него.
Она знает это. Всегда знала. С того самого вечера, когда он ужинал в одиночестве в «Трипортере»; она зашла туда спросить, не даст ли ей хозяин кусочек хлеба, чтобы съесть бутерброд перед телевизором. В тот вечер она опять ждала звонка от того, другого. Марк Броссе сидел за столом в глубине зала, рядом с тарелкой лежала открытая книга. Она вытянула шею, пытаясь прочитать название, но не смогла. Потом забыла об этом и стала рассматривать его.
Недурен собой, на вид около сорока, короткий ежик на голове, прямая спина, хорошо отглаженная тенниска «Лакост», — словом, вполне довольный жизнью холостяк. Франсуа, владелец «Трипортера», сказал невзначай: «Есть минутка? Познакомлю тебя с приятелем, очень его люблю…». Она подошла: она доверяла Франсуа, а значит, и Марку Броссе. И он сумел вскружить ей голову. Разговором. Взять хотя бы его определение ума. Вернее, не его, а Мальро[3], если быть точным. Ум — это: 1) умение разобраться в человеческой комедии; 2) способность к суждению; 3) воображение. Или что-то вроде того. Ей страшно понравилось это определение. Особенно первый его пункт. Срывать маски. Смотреть в корень. Видеть под розами навоз. Услышав эти слова, она словно вновь оказалась в детстве. И к тому же очень возбудилась от такой эрудиции. ДЗЫНЬ-БАМ! Она сдалась в тот же вечер.
Клара Милле обожает учиться. Когда ей грустно, она утешается словами, историями, новыми знаниями. Вся эта ерунда возвращает ей вкус к жизни. Вот, к примеру, история про кукушку, она прочла ее в очереди к зубному врачу. Кукушка, оказывается, паразит, она откладывает яйца в гнезда разных мелких пичужек вроде трясогузки и малиновки. Находит подходящее гнездо, родители в страхе разлетаются, потому что она похожа на ястреба, она выпивает одно яйцо из кладки и вместо него сносит свое, примерно того же цвета и размера. А потом улетает, предоставив другой птице высиживать ее яйцо. Кукушонок выводится быстрее других птенцов, вылупляется первым и выбрасывает другие яйца из гнезда: у него неумеренный аппетит, и делиться едой он ни с кем не желает! Кукушка может снести до двадцати пяти яиц и все оставляет у приемных родителей, а сама смывается без зазрения совести. Эта история про кукушку, вычитанная в буклете Генерального совета департамента Сен-Маритим, поразила ее до такой степени, что она даже забыла про визит к стоматологу. Тот, видно, был родом из Нормандии, или домик у него там был, или он просто интересовался птицами. Наверно, в детстве мечтал стать орнитологом, но родители убедили его, что у этой профессии нет будущего, что птицы в конце концов вымрут, потонув в мазуте, а вот у кариеса куда более светлое будущее, ведь дети сейчас поглощают столько всякой дряни. Сидя в приемной несостоявшегося орнитолога-дантиста, Клара не могла опомниться, не могла поверить в подобную безответственность. Значит, материнский инстинкт не существует в природе; его выдумал человек. Чтобы расписывать в своих книжках и продавать их. Чтобы вызвать чувство вины у женщин, которым как-то неуютно с младенцем на руках. Марк Броссе не знает истории про кукушку, бесстыжую мать. Клара не захотела с ним поделиться. Она как могла, с открытым ртом и замороженными деснами, рассказала ее несостоявшемуся орнитологу-дантисту, но ни словом не обмолвилась Марку Броссе. Наверно, не доверяла. Это был знак. Знак, который она тогда не захотела увидеть.
Были и другие знаки, если поразмыслить. Убийственные мелочи, как она их называет. Например, при первой же встрече какая-нибудь ерунда может убить желание в зародыше. Эти пустяки не имеют значения, если любишь по-настоящему, до смерти, ДЗЫНЬ-БАМ, но когда любишь вполнакала, они решают все. Орфографические ошибки в любовном письме. Или сумка через плечо. Или машина на дизельном топливе. Или ковыряние ключом в ухе.
Орфографические ошибки исключены: Марк Броссе — преподаватель философии. Он великолепно подбирает слова, строит фразу, употребляет времена, выражает свою мысль. Ни машины на дизельном топливе, ни сумки через плечо у него нет. Он не носит ни слишком узких плавок, ни слишком коротких носков. Не ковыряет в зубах кухонным ножом. В конце концов она решила, что он красив, обаятелен и умен. Убедила себя, что может в него влюбиться.
И забыть того, другого.
Вот оно, дело всей ее жизни — забыть того, другого. Это занимало почти все ее время. Иногда получалось. Например, с Марком Броссе.
Забыть удалось на сто восемьдесят два дня.
Губы Марка Броссе скользят от ее шеи к левой груди. Язык Марка Броссе увлекся ее соском, и Клара Милле чувствует, как напряглось ее тело. Надо ему сказать, что ей не хочется за него умереть. Она знает: если смолчит, в ней поднимется волна гнева. Во-первых, гнева на него, того, кто, ни о чем не подозревая, безмятежно посасывает ее левую грудь, потом правую, потом спускается к животу… Что будет потом, она уже выучила наизусть. Надо же время от времени импровизировать, как-то менять маршрут! Во-вторых, гнева на себя: сама виновата, что влипла. Причем не в первый раз. Не в первый раз вообразила невесть что, только бы забыть того, другого.
Клара Милле отодвигается на сантиметр, чтобы уклониться от губ Марка Броссе. Чтобы показать: она не согласна, она хочет уйти куда-нибудь подальше, подальше от него. Но он продолжает свое дело, смиренно и терпеливо, словно монах-бенедиктинец, переписывающий древние формулы дистилляции жидкостей из старинных колдовских книг. Марк Броссе — прилежный ученик. Усердный, и дело свое знает. Если его сейчас не остановить, физическое удовольствие неизбежно прорвется наружу и на некоторое время оттеснит гнев. До новой встречи, до нового утра. Но проблема-то останется. А кроме того, будет стыдно. Стыдно, что струсила, что собственный живот оказался сильнее.
Достаточно одного слова, коротенького, шепотом произнесенного слова, имени собственного, имени того, другого, чтобы она послала этого куда подальше, отлепила бы от себя этот рот, гуляющий по ее телу, как пылесос. Но она не хочет произносить это слово. И потому всеми силами цепляется за кукушку, восхищается ее эгоизмом, ее невероятной жаждой жизни. К чему торчать часами в гнезде, согревая детеныша, который потом улетит и спасибо не скажет; сбросила потомство, как балласт, и пускай выпутывается, как знает. Пускай другая высиживает яйца! Пускай другая корячится, кормит детеныша, чистит его, учит летать! А она живет своей жизнью. Не жертвует собой. Самопожертвование всегда подозрительно, думает Клара, чувствуя, как простыня сползает с ее ног под губами Марка Броссе.