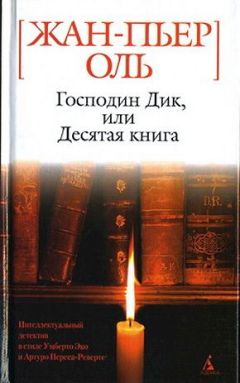Катрин Панокль - Мы еще потанцуем
— Я думал, ты завязала со сладостями?
— Завяжу через десять минут. При условии, что Мартен не будет больше разбрасывать по твоей машине свои «Карамбары»!
Мартен — это сын Филиппа. И его бывшей жены Каролины. Они прожили вместе около шести лет и расстались. Без объяснений. Мартену было два года. «Это мы для статистики, — объяснял Филипп. — Каждая вторая пара разводится. Для круглого счета не хватало одной пары. Ну мы и пошли навстречу…»
— Смотреть на тебя противно…
— Разуй глаза… Вокруг полно девушек, смотри — не хочу!
— Зимой их не видно…. Они все закутанные…
— Потому что тебя волнует только внешняя оболочка… А меня интересует душа!
Красный свет. Великанша скандинавского типа переходит улицу. Длинные светлые волосы рассыпались по пальто, воротник поднят. Ногти накрашены зеленым.
— Вот видишь! Ни кусочка тела не видно! А уж насчет души… — вздыхает Филипп.
Он провожает взглядом великаншу, жмет на газ, трогается с места. Другая сторона улицы разворочена стройкой. На лесах работают люди в синих комбинезонах и белых касках. Повсюду положены доски, целая цепочка пешеходных мостков. Рабочие разгуливают по ним бесстрашно, с ловкостью канатоходцев. Внизу они разожгли жаровню, некоторые, пошучивая, греют над ней руки, прежде чем лезть наверх. Солнце в конце концов пробуравило тучи, и Филиппу отлично все видно. Люди трудятся с удовольствием, они уверены в своем ремесле и своем мастерстве, и робкое декабрьское солнышко ласкает их своими лучами. Переговариваются, перешучиваются, хохочут и не переставая стучат молотками. Через несколько дней здесь поднимется каркас здания. И тогда архитектор увидит, все ли получилось по его проекту, так, как он придумал за чертежным столом. Ох уж это третье измерение, которое не увидишь на бумаге… Ох уж эти страхи: так или не так, вдруг его замысел примет не ту форму, вдруг извратят его идею, вдруг изменится общий облик здания? Каждый раз он испытывает такой страх. Кстати, Вуди Аллен в интервью говорил абсолютно то же самое о своих фильмах. Отправляешься от какой-то одной идеи и теряешь ее во время съемок. Когда фильм закончен, первоначальную мысль уже трудно узнать. И в строительстве так. Во всем так. Мы чертим прямые линии, а жизнь кривые, заключает Филипп, наблюдая за суетой людей на стройке. Потом смотрит на часы и спрашивает себя, стоит ли ей звонить. Последний раз они разругались в дым. Он ушел, хлопнув дверью. Она все никак не решится бросить мужа. «Ведь тебе же нужен не он, а его деньги, комфортная жизнь! — вопил Филипп. — Так и скажи, будет гораздо проще и честнее». Она холодно ответила: «Именно, и что дальше? Ты-то что можешь мне предложить? Архитекторы нынче не в почете, верно?». Он ушел, кипя от гнева и унижения. Сегодня или завтра утром она приедет в Париж — он это знает. Черт, как же он любит с ней трахаться! После развода с женой он никого не оставлял у себя дольше, чем на ночь. Но для нее готов освободить место на полке в ванной. Готов познакомить ее с Мартеном. Готов принять ее со всеми потрохами. Он не так-то легко влюбляется. Слишком недоверчив. К тому же пару раз с ним это случилось, и все кончилось плохо. Девушка уходила. И он слишком долго потом приходил в себя. Вечерами сидел дома в одиночестве и поглощал макароны с сыром. Смотрел, как тянутся от вилки длинные сырные нити. Нажирался до отвала. После чего плюхался в кровать и храпел во всю мочь. Только макароны могли заглушить его боль. А сейчас он чувствует, что снова катится по наклонной плоскости. Обычно он старается думать о женщинах как можно грубее и чисто потребительски, не оставляя места чувствам: большие сиськи, красивый зад — горячая штучка, веселая сучка. Грубость избавляет от соблазнов нежности. Он любит как обыватель и вполне доволен. Иначе чувства парализуют желание.
— А чем тебе не угодил Марк Броссе? Всего месяц назад кое-кто называл его самым умным, самым понимающим, самым терпимым, самым открытым, самым образованным в мире, и вот вам — пшик…
— Просто сегодня утром я поняла, что никогда бы не захотела умереть за него! Я не настолько сильно его люблю.
— Вовсе не обязательно умирать за всех парней или девушек, с которыми мы спим!
— Между нами та разница, что я ни с кем не сплю просто так. Я ищу любви, великой любви…
— Не очень-то у тебя получается.
— Все равно это лучше, чем трахаться с кем ни попадя…
— Кто знает… Зато целее будешь.
— Мне всегда было неинтересно жить вполсилы!
«Мне тоже, — думает Филипп, разглядывая упрямый профиль сестры. — Но можно ли по-другому?». Он тянется к бардачку, достает компакт-диск. Он чувствует, что разговор обернется грандиозным спором о любви, о жизни, об уходящем попусту времени, и ему не хочется в это влезать. Если бы еще Клара не принимала все так близко к сердцу…
— Ты хоть сдал анализ, а? — бросает Клара.
— Нет.
— Но хоть предохраняешься?
— Так, через раз.
— Почему?
— Потому что не могу об этом постоянно думать. Если верить всему, что болтают, скоро у тебя вместо мозга будет большой гондон. Бросишь пить, курить, трахаться, жрать и дышать.
— Все равно…
Теперь она крутит пуговицы своей большой черной куртки и, как пить дать, представляет, что скоро умрет!
— Не грузись, сестренка!
Кларе вдруг страшно хочется прижаться к нему. Хочется, чтобы он обнял ее и прошептал те самые слова, которые говорил в детстве, когда ей было страшно: «Я здесь, Кларнетик, я всегда буду рядом». Но она просто кладет руку ему на затылок. У него красивые темно-каштановые волосы, густые, волнистые. Ей кажется, что от одного прикосновения пальцев к коже брата она вновь обретает силы. Не убирая руки, она закрывает глаза и замирает. Пытается вслепую угадать, по каким улицам едет Филипп. Считает светофоры, правые и левые повороты, кое-как ориентируется. Однажды, еще совсем маленькой девочкой, она сожгла свою куклу Веронику. Она хотела завить кукле волосы и положила щипцы тетки Армель ей на животик. Живот и правая рука расплавились, распространяя запах паленой резины. Когда она убрала щипцы, от куклы к ним потянулись длинные розовые и черные нити. Клара рыдала, прижимая к себе Веронику. Побежала к брату. Филипп осмотрел обугленное тельце, безобразную смесь розового и черного, и посоветовал посадить куклу в горшок с землей, поливать каждый день и говорить ей слова любви, чтобы рана зажила. «Однажды утром ты проснешься и увидишь, что кукла не только выздоровела, но еще и выросла, похорошела. Ты ее и не узнаешь». Они посадили Веронику в большой цветочный горшок, и каждый вечер по совету брата она поливала ее из большой красной лейки тетки Армель. И однажды утром, о чудо! вместо обгорелой, почерневшей куклы она обнаружила нарядную, красивую Веронику, больше прежней и с гладким розовым животом. «Вот видишь, — сказал Филипп, — сработало!». Потом она не раз пыталась заставить его признаться, что это он ночью подложил новую куклу, но он неизменно клялся, что дело только в волшебстве любви. В конце концов Клара ему поверила. Она до сих пор верит всему, что рассказывает брат. «Без него, — растроганно думает она, вдруг чувствуя себя ужасно сентиментальной, — я бы точно пропала». Ей хочется плакать, но она сдерживается. Продолжает говорить, но с таким ощущением, словно пережевывает слезы.
— Я решила, что умру, если Рафа не вернется… Даю себе месяц, нет… неделю… Не хочу больше жить без него. Неинтересно…
Филипп даже присвистнул от удивления, словно увидел на светофоре свернувшегося кольцами боа-констриктора. Он отводит взгляд от зеркальца заднего вида, высматривает свободное место у тротуара, паркуется, глушит двигатель. Потом оборачивается к сестре и тихо-тихо спрашивает:
— Ты все еще любишь его?
Она кивает. Глаза ее полны слез.
— Такое чувство, будто я все время жду его.
— А все эти твои парни?
— Я пытаюсь, я очень стараюсь, но…
— «Горечь жизни не в том, что мы смертны, а в том, что умирает любовь»[6]. Не помню, откуда цитата…
— Не знала, что ты такой эрудит…
— Да ты вообще ничего обо мне не знаешь, — вздыхает он. — Ну, разве что мелочи, о которых и говорить-то не стоит. Досадно, знаешь ли, весьма и весьма досадно, когда родная сестра тебя совсем не понимает…
Это у них такая игра. «Досадно, весьма досадно…» — по любому поводу сокрушается Филипп, изображая непонятого и нелюбимого. Но на этот раз Клара ему не подыгрывает. Она словно окаменела, забившись в угол — такая маленькая в этой толстенной черной кожаной куртке… Филипп придвигается к ней, обнимает. Он так редко проявляет нежность, что плотину, возведенную Кларой еще с утра, наконец прорывает, и она плачет навзрыд. Он дает ей выплакаться, чуть сильнее прижимает к себе, гладит по голове.
Сам он не способен рыдать, как Клара, но, обнимая сестру, как будто впитывает ее слезы, ее чувствительность, муку ее жизни без Рафы. Он завидует ее способности целиком отдаваться горю. Ей потом станет лучше, ей полегчает, а ему останется вся тяжесть вернувшейся любви, он будет глух к своему желанию любить снова. В детстве он так сражался с заурядностью, с жестокой пошлостью жизни, их общей жизни, что сердце его закалилось, покрылось броней. Он с таким пылом защищал младшую сестренку, так много тратил на это сил — сначала все силенки маленького мальчика, потом все силы повзрослевшего юноши, — что на себя у него ничего не осталось. Женщины могут подбирать его, бросать — он совершенно беззащитен. Когда Каролина захотела за него замуж, он сказал «да», когда она захотела ребенка, тоже сказал «да», когда она захотела уйти, не стал ее удерживать. Словно все это его не касалось. В какой-то момент он поверил, что Рафа примет эстафету. И Рафа ее принял. Клара, Рафа, Филипп. Они были одной семьей. Филипп любил Рафу. Любил любовь Рафы и Клары. Страдал, когда они расстались. К тому же он знал, что виновата во всем только Клара. Любовь эгоистична, любовь жестока, любовь опасна. Клара была эгоистичной и жестокой. Сама того не понимая, естественно. Всему виной ее прошлое. То прошлое, которое он так хотел сгладить, выправить, а лучше вообще стереть из памяти. Ему не удалось вылечить сестру от осложнений детства. С тех пор в нем жило что-то вроде чувства вины… Какой-то груз на плечах. Он это знает. Но не любит об этом думать. Потому что иначе он снова возвращается в прошлое, снова становится беспомощным малышом.