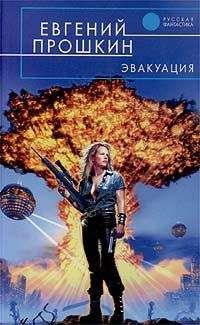Юмико Секи - Холодно-горячо. Влюбленная в Париж
Мне было не о чем с ними говорить.
Мы не купались в роскоши, но тем не менее жили почти в самом центре Токио. В нашем квартале традиционные японские домики соседствовали с бетонными громадинами, которые вырастали повсюду в период бурного экономического подъема после войны. Наш дом был деревянным, недавней постройки, но не современным. Комнаты с низкими потолками были выстланы соломенными циновками, вместо дверей — раздвижные бумажные перегородки. Только в столовой были паркетный пол и европейская мебель.
На улицах, как и в домах, сплошь и рядом все та же мешанина. Дзенский минимализм с трудом сопротивлялся искушениям бурно развивающегося капитализма. Мне не нравился этот разношерстный беспорядок; я восхищалась упорядоченной красотой французских садов, спроектированных Ленотром. Эти прекрасные пейзажи, которые я рассматривала в календаре, конечно же, существовали где-то в действительности.
Каждое воскресенье с утра отец уезжал играть в гольф с коллегами по работе. Оставшись одна с мамой, я ела обильный завтрак по западному образцу: чай с молоком, сэндвичи с ветчиной и ломтиками огурца на хлебе без корки, яйца вкрутую с майонезом. Мама с трудом могла меня чем-нибудь накормить: я отказывалась есть традиционные блюда: рис и суп мисо. Запах вареного риса зачастую вызывал у меня тошноту. Единственное, что я любила, — молоко, привозимое из Европы. Я пила его целыми днями.
Мама складывала сэндвичи горкой на тарелке и срезала корку с квадратных ломтиков. Она всегда делала их больше, чем нужно, — наверное, боялась, что не хватит. До войны она тоже была привередлива в еде, но голод научил ее есть все подряд. В детстве очень худая, с годами она стала скорее пухленькой. Я не находила ее ни красивой, ни уродливой; основной сутью ее натуры была любовь ко мне.
Когда сэндвичи были готовы, мама начинала рассказывать мне о временах своей молодости — иными словами, о военных годах.
Император считался живым богом, и народ обязан был верить в сверхъестественную природу его власти. В школах этому учили как исторической реальности.
Когда обстановка в стране осложнилась, школа превратилась в военный завод. Моя бабушка решила уехать вместе с детьми в родную провинцию, в ста километрах от столицы. Мама, старшая из пятерых детей, предпочла остаться в городе с дедушкой, который там работал. Она не хотела бросать учебу и готовилась к продолжению занятий. Весной того года, когда ей исполнилось пятнадцать, самолеты В-29 бросали на Токио зажигательные бомбы, и одна из них разрушила мамин дом.
В ту ночь мама была одна. Пожар охватил все дома квартала, превратил в пепел ее вещи и учебники. Сидя среди развалин, она ждала дедушку, который должен был вернуться с ночной смены под утро, пройдя пятнадцать километров пешком. Даже после этого они продолжали оставаться в Токио. Однако это продолжалось недолго: за два месяца до поражения Японии бабушка заболела раком, и им пришлось переехать к ней.
Поглощая сэндвичи, я всегда испытывала одно и то же ощущение несправедливости — но не по отношению к тем, кто бросал бомбы на мирные города, как можно было бы предположить. Нет, чего я совершенно не понимала, так это, как взрослые и разумные люди могли признавать божественную природу императора и заставлять своих детей учить в школах, что острова архипелага один за другим вышли из чрева богини-прародительницы.
15 августа 1945 года, когда император Хирохито объявил по радио о капитуляции Японии, мама сказала себе, что пришло время умирать. Разве не им повторяли день за днем, что нужно жертвовать собой во имя родины? В моих же детских глазах генерал Мак-Артур был освободителем — без него я никогда не увидела бы остальной мир.
В начале шестидесятых годов следы войны уже почти отовсюду исчезли, если не считать маминых рассказов, и наше общество совершило поворот на сто восемьдесят градусов. Вплоть до конца императорского правления отношение к западной культуре было презрительным, а изучение иностранных языков запрещалось. После вступления в страну американских оккупационных войск модернизация пошла параллельно с американизацией. Мальчишки начали играть в баскетбол, женщины — делать перманент. Европейское влияние распространялось прежде всего на интеллектуалов и творческих людей. Будучи еще слишком юной, чтобы различать эти две культуры, я с наивным воодушевлением бросалась на все подряд, что приходило с Запада.
Насколько я не любила традиционную японскую кухню, настолько же открытие западной кухни стало для меня откровением. Это произошло в ресторане, что само по себе было редким случаем, — кто-то из нас праздновал день рождения. Некоторые токийские рестораны предлагали в добавление к японским блюдам с гарниром из риса несколько западных блюд, к которым подавался хлеб. Их вкус казался мне более насыщенным, не таким однообразным, как у наших, неизменно приправленных соевым соусом. Как трудно было сделать выбор между панированными креветками во фритюре и рубленым стейком с подливой! Даже если эти блюда, приспособленные к японским вкусам, были на самом деле лишь фантастической интерпретацией западной гастрономии, мой аппетит, обычно столь скромный, разгорался вовсю.
Потом был обед по случаю женитьбы моего дяди, маминого младшего брата. Он состоялся после торжественной церемонии бракосочетания по традиционному синтоистскому обряду в банкетном зале «Отель Империал», построенном Фрэнком Ллойдом Райтом. Вид длинного стола, накрытого белой скатертью, навсегда запечатлелся в моей памяти. Для каждого из гостей было поставлено множество бокалов и столовых приборов. Меню, состоящее из двух перемен блюд, мясного и рыбного, подаваемых вышколенными официантами, полностью соответствовало правилам французской кухни. Незабываемой подробностью стали кусочки масла в форме хризантем, поданные на серебряном блюде. Эти утонченные детали окончательно разубедили меня в превосходстве сервировки восточного стола.
Это открытие совпало с другим — классическая музыка. Мама, которая любила Бетховена, Шуберта и Шопена, жалела, что никогда не училась играть на пианино. Во времена ее детства, и особенно в военные годы, пианино изготавливались в небольших количествах, но в середине пятидесятых годов «Ямаха», первая японская фирма по их массовому производству, стала открывать музыкальные школы для детей. Появившись в каждом квартале Токио, они быстро начали процветать, тем более что плата за обучение была вполне приемлемой. Конечно, целью открытия их было превращение учеников в будущих покупателей, но тем не менее, благодаря эффективному методу обучения, я очень быстро научилась разбирать партитуры и выяснила, что обладаю музыкальным слухом.
По телевизору в те времена еще не показывали американских сериалов, и мои фантазии о Западе питались в основном чтением детских книг. Истории, рассказываемые европейскими авторами, разворачивались среди декораций, созданных моей фантазией: дом, окруженный садом, с цветущими розами и рододендронами, лес и дети, строящие хижину, столетние деревья, на которые они взбираются, ферма, куда дети заходят выпить парного молока, гумно, на котором они прячутся среди стогов сена… Какой это был контраст с декорациями японских историй, мрачных и патетических: заснеженная деревня, где птицы погибают от голода, или жалкий рыбацкий поселок, где мерзкие дети мучают черепаху! В наших историях почти всегда присутствовал налет несчастья и обреченности, и восхваляли они лишь стойкость честных бедняков. От этого у меня мороз пробегал по коже, так же как и от японской музыкальной гаммы с ее минорной пентатоникой. Мир западных книг внушал мне что-то совершенно отличное от этой меланхолии. Даже если маленькой девочке из глухой, затерянной в Альпах деревушки приходилось выносить дурное настроение своего желчного деда, — она, по крайней мере, могла дышать горным воздухом, есть овечий сыр и домашний черный хлеб. Мне нравились и сами имена персонажей: Эйди, Клара, Астрид… Эти имена, англосаксонские, немецкие или скандинавские, написанные катаканой — книжным шрифтом, для моего уха звучали гораздо более мелодично, чем наши, и, конечно же, тот мир, в котором они могли быть произнесены, был гораздо лучше.
Я нечасто играла с детьми из нашего квартала, предпочитая оставаться дома, играть на пианино или рисовать. Когда мне хотелось подышать воздухом, я шла одна в городской парк. Глядя на бесконечно меняющиеся формы облаков, я развлекалась, находя среди них какого-нибудь зверя, корабль или замок… Но эта игра не занимала меня надолго, и скука брала верх. Моя реальная жизнь не приносила мне достаточно эмоций. Я стремилась к чему-то большему.
Глава 4
Почти все телефонные кабинки на бульваре Сен-Жермен были свободны. В путеводителе я прочитала инструкции по использованию телефонов-автоматов во Франции. Нужно было купить жетон и бросить его в щель в тот момент, когда на другом конце провода снимут трубку. Однако путеводитель предупреждал и о том, что шанс встретить исправный автомат примерно такой же, как вытянуть счастливый билет в лотерее. После многочисленных бесплодных попыток я решила позвонить из ближайшего кафе. Нужно было набраться храбрости. Официанты в кафе, снующие туда-сюда, кажется, даже не замечали моего присутствия. Через несколько минут, чувствуя себя все более скованно, я заказала чашку кофе у стойки, чтобы получить возможность позвонить.