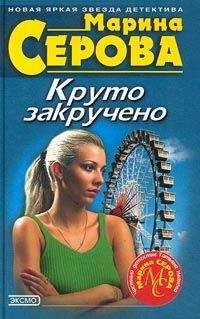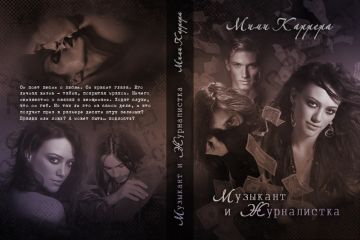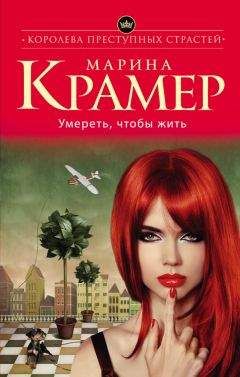Марина Голубицкая - Два писателя, или Ключи от чердака
Отчего–то никто не приходил. Мы давно все накрыли и расставили. За окном белело и серело, сыпал майский снег, батареи дышали холодом. Я набрала двушек и побежала вызванивать гостей, но телефоны–автоматы, будто нищие, выставляли покореженные диски и оборванные трубки. Я промокла, продрогла, обиделась, а когда вернулась, у нас сидел Родионов. В ожидании других мы немножко выпили и перекусили, о литературе мы не разговаривали, мы говорили о супе. У него были серые щеки язвенника, мне хотелось накормить его супом. Он рассказывал, как умирала его мать, он рассказывал мне, как своей, но я чувствовала себя сиделкой или нянечкой — я могла его только обхаживать. Он был существом другого мира, бесприютным, одиноким. Казалось, в нем сквозит дыра, дыра, в которую все улетит, я и не пыталась ее заткнуть, просто дежурила свою смену.
6
Несколько лет спустя я привела домой новую знакомую. Осмотрев все книжки и стенки, Эльвира спросила:
— Что это за картина?
— Ну… это абстрактная картина…
Я привыкла, что многие злятся: «Ну, и что здесь изображено? Что художник хотел сказать?»
— Вижу, что абстрактная, — удивилась гостья, она закончила философский факультет. — А чья эта картина?
— Так, одного местного художника… — отмахнулась я. — Володи Родионова.
— Да знаю я Володю Родионова, прекрасно знаю! Он позавчера так напился у Леры Гордеевой! Решил в ножички поиграть, чуть не порезал Игоря Чмутова …
Эльвира водила компанию с Чмутовым и рассказывала о нем взахлеб: Чмутов объявил, что встал на путь воина, ел мухоморы, ходил раздетый по морозу. Однажды я видела из окна трамвая: Чмутов бодро шагал среди снега в шортах, румяный как пионер, длинные волосы и крепкие ляжки.
7
У нас наконец появились деньги — муж стал заниматься бизнесом. Он стал заниматься, они стали появляться. Майоров посоветовал зайти к Родионову, тот продавал картины и кров, продавал комнату в коммуналке, и уезжал в деревню писать роман. Мы взяли с собой все наши деньги — мы впервые шли покупать картины. Выйдя из троллейбуса, переглянулись: зачем отсюда уезжать? Адрес указывал на дом с колоннами — в таких при Сталине селилось руководство дороги или все заводоуправление. Когда–то здесь был сквер, теперь же раскинулся полупустырь–полугазон, где летом валялись дворняги, а зимой наметало. Мы продвигались след в след по заснеженной тропинке и успели вдоволь налюбоваться фасадом. И подъезд был приличный, гулкий, и высокие потолки. Все стены в комнате, насколько хватало обоев, были в записках.
— Что это?
— А, наброски к роману! — Родионов отмахнулся, не рисуясь, как я бы сказала: «Да так, дети баловались».
Ах, как мне это было интересно! Я не писала, я просто читала все детство, я и спрашивать–то боялась, чтоб не ляпнуть: «Ну, и что здесь изображено?» А может, я и спросила, может, он и ответил, он всегда говорил торопливо, будто темнил, он охотнее жаловался на соседку.
Родионов принес все свои картины, расставил на полу, Горинский достал все свои деньги, разложил на диване. Наши первые деньги — я к ним даже не прикасалась, относилась как к мужской причуде, как если бы муж принес пауков и держал их в немытом аквариуме. Родионов показывал картинки, называл цены, Леня рассматривал, советовался со мной, пересчитывал рубли. Нам хотелось купить сразу несколько, три или хотя бы две. Если две, то похожих, чтоб было ясно, «что художник хотел сказать». Если три, то одну совсем другую, чтоб было видно, что художник может еще и так. Две картины выбрали быстро, одинаковые, как близнецы — абстрактные, фактурные, темно–серые. Оставалось немного на третью, мне понравился «Слон». Примитивный слон, бордовый на красном, он стоил дешево, был нарисован на фанере. Хозяин пользовался картиной как столом, и на ней проступили пятна от стаканов. Чем больше мне нравился слон, тем больше не нравились эти пятна, мы стали искать другой вариант. Художник переставлял картины, покупатель перекладывал деньги, и оба стремились сыграть вничью. Это было похоже на детского «дурака»: карты разложены картинками вверх и все с азартом ищут лучший выход: «Если ты дамой, то я тузом… вот дурак! заходи с девяток». В конце концов, мы взяли совсем другую, дорогую, крупноформатную, именно ту, что после заметит Эльвира. Оставалось выбрать одного из близнецов. Я поинтересовалась названием, одна картина называлась «Пейзаж под Питером», вторая — «Рыбка». Нарисованная рыбка! Конечно, мы выбрали ее.
8
Он вернулся через год — без романа, но еще при деньгах. Я третий раз сидела в декрете. Мужа не было дома, но теперь я привыкла. Хорошо, хоть Родионов зашел. Он покупал комнатушку в барачном районе, конфликтовал с сестрой, пришел к мужу за консультацией. Про роман сказал, что сжег, уничтожил. Я спросила, зачем он вообще уезжал.
— Ехал как–то на поезде, — ответил он, — увидел эту деревню из окна, и так туда захотелось…
— А я с Машей ездила в Красноуфимск за земляникой. Ты не видел, как он выглядит из окна? Это такой городок в чаше леса. На станции сквер, как в нашем детстве: беленые столбики, чугунная решетка… Меня бывшая студентка пригласила. В квартире солнце и на окнах воздушный тюль … Пол блестящий, с красным оттенком, как когда–то у мамы. Мясо в супе вкусное. Земляника, рыбалка…
Я кормила Родионова супом, гостеприимно трещала, он не пытался поддержать разговор.
— А потом я приехала без дочки, второй раз, и меня не стали стесняться. Пришли ее тетки, дядья, налепили пельменей, начали пить… И все запоганили, захаркали, засыпали пеплом, залили водкой… Кого–то рвало. С утра бутылки пошли сдавать.
Он чуть оживился.
— Там тоже здорово пили!
— И весь город идет в баню к родне. В автобусе друг друга спрашивают: «Что, попировали вчера–то?» — «Ну». — «А сейчас париться? Огурцы–то полили?»… Володь, почему ты вернулся?
— Так видишь… ты ведь сама все сказала. А еще там зима. И осень, — он вздыхает, как старичок. — И–э–эх!
9
Два года назад я встретила Чмутова — на презентации, на выставке пейзажа. Его щеки опали, залегли носогубными складками. Теперь он больше походил на пьющего русского, чем на избалованного еврейского мальчика. Он был в красном пиджаке из подкладочной ткани и в кудлатом парике — Леня носил такой в школе, чтоб дразнить завуча по воспитательной работе. Чмутова сопровождал узкоплечий спутник с впалой грудью и донкихотской бородкой, спутник был почти на голову выше Чмутова.
Презентация — праздник. Как всякий праздник, она может быть удачной или скучной. Не все зависит от картин. Иногда бывает хорошая музыка, а иногда слишком высокие каблуки. Люди фланируют, держась за бокалы. Мелькает Фаинка с микрофоном, за ней вышагивает оператор, хмурый мужик в джинсовой курточке. Фаиночка выбирает героя, заводит разговор на фоне картин, властно кивает оператору: «Работаем!» Она по–прежнему напоминает Модильяни: изысканная шейка, острый локоток. Микрофон тяжеловат для ее хрупкой кисти, но она грациозно держит спинку, запрокидывает голову, будто вопрос таится на острие подбородка… Чего тебе надобно, старче? Она выпячивает богатые губы, собирает их в трубочку, как нарисованная рыбка, маленький знак вопроса на гребне волны. Кто–то отвечал интересно и густо, кто–то тараща глаза и топорща усы. Всплеск хвоста — и всех смывало волной. В передаче бушевали спецэффекты и всепоглощающая ирония журналистки.
На презентации говорились речи и для публики, в меру длинные, в меру интересные, в этот раз дали слово Чмутову. Всех когда–то удивлял Чмутов — в этот раз пронзило меня. Он начал вкрадчиво: о лоне матушки–земли, о зарослях леса. О том, что спутники летают, камеры снимают, нам кажется, что все на виду, все измерено, изучено, сосчитано, а лес–то э–э–э! живет себе, растут себе грибочки, ползут букашки, дышат травиночки. Он сверкал очами в огромных глазницах, и теперь, в отсутствии щек, я их разглядела. Он менял регистры от баритона до женского взвизгиванья, дурачился, обрубая глаголы: «быват, кто знат». Он искусно колдовал над словами, сминал их, разрывал на мелкие кусочки, перемешивал и вновь разворачивал целехонькими. Вдруг выхватывал одно–единственное слово, дивился, цокал языком и крутил, вертел его, обкатывал. Меня всегда пленяли фокусники, знающие природу слов.
— Ирина, здравствуй! Что ты пьешь? А почему бокал пустой? — подходили знакомые.
Я избавлялась от рюмки. Это вызывало беспокойство.
— Где твой бокал? Что тебе налить?
Я видела, что Леня разговаривал с Чмутовым, но не приблизилась. Дома я разворчалась на старшую: «Ну и зачем ты сбежала на курсы, что вы там проходили? Онегина? Лучше бы ты Чмутова послушала, писателя, ей–богу, было бы больше пользы!» Я поинтересовалась у Лени, о чем они говорили. Так, ответил он, вспомнили, как в пединституте Чмутов сдавал мне зачет по совправу. И еще: он просил книжку спонсировать.