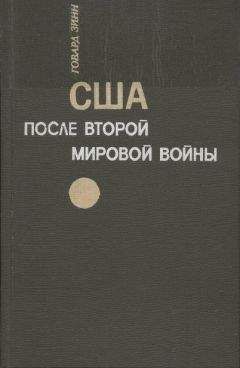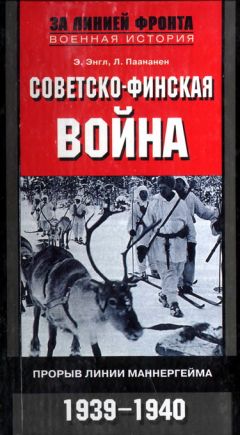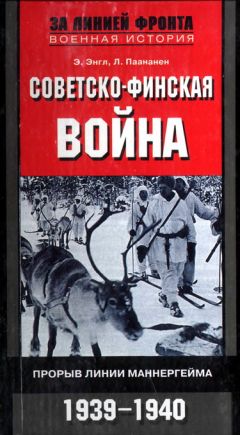Альфонсо Микельсен - Избранные
Смею заверить, что ни язык рукописи, ни то, будет ли она переведена в дальнейшем на любой другой, — все это никакого значения не имеет, так как сам по себе манускрипт не обладает особыми литературными достоинствами (в чем читатель сможет вскоре убедиться). История эта представляет определенный — и чисто человеческий — интерес для тех, кто лично знал автора. Для других же, кто хоть немного знаком с обстановкой, в которой развертывались описываемые события, рукопись эта ценна как документ.
Долгие годы я колебался, переводить ли записки Б. К. на испанский, предавать ли их гласности. В конце концов уступил настойчивости моих друзей, хотя вначале не собирался предавать гласности эти страницы. Судите сами, было ли оправданным мое стремление оградить от людского любопытства этот манускрипт и следовало ли отдавать его на суд широкого читателя, что я и делаю сейчас.
В связи с тем что рукопись не предназначалась для публикации и не была закончена, она даже не имела названия. Автор лишь написал сверху «Du côté de la Cabrera», что на французском могло бы значить: «В сторону Ла Кабреры». Здесь есть аналогия с названием произведения Пруста, хотя дано, пожалуй, уж слишком откровенное указание на место действия описываемых Б. К. событий. Правда, и в разговорах с друзьями из высшего света, чьи резиденции расположены в великосветском уголке Боготы, известном как Ла Кабрера, Б. К. обычно прибегал к этому же французскому выражению. «В сторону Ла Кабреры», как тонко подметил автор, должно было означать то, что относится к любимцам судьбы, ко всему тому, что происходит в высших кругах нашего капиталистического общества. Или, как чаще говорят в народе, «среди избранных». «Избранные»-такое название мы и даем книге.
Б. К. принадлежал к самому «удачливому» поколению нашего века — к тем, кому едва исполнилось двадцать пять лет, когда вспыхнула первая мировая война. Сама судьба, казалось, готовила выходцу из богатой семьи удел следовать традициям европейской буржуазии. Это совпало с тем историческим периодом, когда многие считали, что мир на земле наконец обеспечен, что недалека эпоха политического и экономического прогресса. Уже никто не помнил, в какой момент начался тот «золотой век Августа Октавиана»[1]. И никто не предполагал, что этот век может иметь столь скорый финал. Так же немыслимо было предположить, что один из сыновей этой эпохи, некогда состоятельный и преуспевающий, будет умирать в одиночестве, в нищете в далекой Южной Америке. Такое никогда не могло прийти в голову родителям Б. К.! Изгнания, лишения, преследования — все это в их представлении существовало где-то в области библейских сказаний. Все это было чем-то вроде неясных воспоминаний о далеких варварских временах, недоступных для понимания подданных тогдашнего кайзера. И тем не менее судьба Б. К. сложилась именно так. Подобно легендарной Руфи из Моавита, отвергнутый и покинутый всеми, он мог воскликнуть в свой последний час: «Оставив мать и отца своего и землю, где родился, пришел ты в народ, которого не знал прежде». Пришел, чтобы среди чужих людей успокоиться на смертном одре.
До пятидесяти лет самым крупным событием в его жизни была служба офицером связи в оккупационных войсках, размещенных в первую мировую войну в Сербии. Война та, как известно, велась — если можно так сказать — почти «цивилизованными методами»: не было концентрационных лагерей, не было расовых преследований. Б. К. участвовал в ней без особого энтузиазма, но сохранил о тех годах, в общем-то, довольно приятные воспоминания. Позднее под давлением обстоятельств, о которых мы упомянули выше, он был вынужден покинуть землю своих предков и искать убежище в стране, где за семьдесят лет до того осела одна из обедневших ветвей его рода, устремившаяся сюда в поисках богатства. Естественно, в жизни этого обеспеченного буржуа такое перемещение явилось трагедией, и притом глубокой, несмотря на некоторые комические ситуации, с ним связанные. Трагедия Б. К. состояла в том, что он попал совершенно неожиданно в среду, не соответствующую миру экономических, социальных, религиозных понятий, в котором протекало его детство. Надо напомнить, что в детские годы он пребывал под неусыпной опекой властолюбивой матушки, никогда не предоставлявшей сыну самостоятельности.
Б. К. рассказывал нам, что весь год он с нетерпением ждал весны и разрешения матери провести три недели в швейцарском городке Церматте в компании друзей — графа Монжеласа и Августа Линдинга. Так продолжалось всю его юность и даже позднее, в годы зрелости. Трое друзей приезжали к подножию горы Маттерхорн в поисках горной фиалки, известной среди туристов под немецким названием эдельвейс. Альпийский цветок этот раскрывается еще под снегом и растет лишь на большой высоте. Добыть его во время таяния льдов, когда он являет миру все свое великолепие, считалось великим подвигом. Такого рода увлечениям да чтению мемуаров путешественников XX века посвящал свой досуг в те годы Б. К. Уже на исходе своей жизни, сложившейся именно так, как это было предназначено судьбой для богатого наследника, не знавшего материальных затруднений, для которого работа была всего лишь приятным времяпрепровождением, Б. К. пришлось карабкаться по горным Андам в поисках более экзотических цветов, чем те, что он собирал в компании с Линдингом и Монжеласом. И горы здесь были не похожи на возвышавшиеся против «Гранд-отеля» в Церматте. Мир, совершенно чуждый европейскому буржуа, открылся его глазам. Наверно, так же как и Б. К., неуютно почувствовал бы себя в Андах и эдельвейс. Мы, его друзья, наблюдали, как Б. К. бился, пытаясь приспособиться к ритму жизни в нашей стране. Все было впустую. Он походил на засыхающий в чужой ему среде цветок. Этот человек никогда не мог понять нашего образа жизни, привычек, несмотря на искренние симпатии к нашей стране и уважение к нашим людям. Б. К. так и не смог уяснить, насколько чужд ему мир, в который он попал под старость. Он оставался верен себе до конца своих дней: невозмутимый и сдержанный, он как бы стремился продлить существование франкфуртского буржуа в круговерти латиноамериканского города. Его черный костюм, котелок, трость с набалдашником в форме собачьей головы, светлые перчатки постоянно вызывали улыбки. Он даже ходил как-то по-иному, по всей вероятности именно так ходили в прошлом веке: размеренно-торжественная походка европейских рантье тех времен, когда все покоилось на основах, казавшихся вечными, а такие понятия, как деньги, границы, платье и браки, были нерушимы. Но что подумали бы о нем те, кто улыбался при его появлении, видя в нем призрак, возникший из прошлого, если бы смогли заглянуть в его душу? Только перелистывая страницы рукописи Б. К., начинаешь постигать его внутреннюю жизнь, столь же непонятную и странную для нас, как и его эксцентричная внешность.
Исповедь Б. К. свидетельствует о том, что он безуспешно пытался примениться к нашему образу мыслей и так же безуспешно тщился понять нас. В его размышления то и дело вкрадывались некие предвзятости, истоки которых следует искать в его протестантском воспитании, а также в весьма небогатом житейском опыте, который Б. К. приобрел на Балканах в начале века. В немалой степени это объяснялось и страхом перед неизвестным, который заставлял его постоянно проводить аналогии между нашим миром и миром джунглей… Тем более бесполезно было строить догадки о нашей будущей судьбе, как это делает автор рукописи, опять-таки исходя всего лишь из собственных устаревших понятий. Но так как годы, проведенные им в загребском гарнизоне, дали ему единственную возможность иметь контакты с чужестранцами — если не считать периодических выездов в Швейцарию, Францию и Англию, что было по тем временам непременным условием хорошего воспитания, — то легко понять, какое шоковое впечатление произвели на Б. К. экономика, политика и общественная жизнь Латинской Америки. Естественно, что он все время вспоминал ту культуру, к которой он был приобщен ранее и которая была столь отлична от нашей.
Видимо, наиболее странным ему казался — по контрасту с его собственным — мир нашей религии: этакая смесь индейского язычества и ярого испанского фанатизма.
Когда Б. К. покинул Германию, он уже практически не был верующим. Освободившись от опеки матушки, он быстро растерял свои религиозные убеждения и не придавал большого значения отправлению церковных обрядов. Более того, кальвинистское воспитание наложило на него свой особый отпечаток, придав, как я уже говорил, некоторые особенности его личности и характеру.
Три поколения деловых людей, очень набожных и трудолюбивых, каковыми были, предки Б. К., не могли не сколотить в течение всего XIX века то, что с полным основанием может быть названо солидным состоянием. Эта разновидность христиан трудилась с удивительной настойчивостью и постоянством и в то же время вела жизнь аскетов. Кальвинисты, как известно, считают, что господь бог уже заранее наметил и «божьих избранников», и «погибших»; заранее решил, кто обретет спасение, а кто будет осужден на вечные муки. Но концепции эти, как было сказано, применялись не только к учению о загробной жизни, но и к делам сиюминутным. Тот, кто процветает, — праведник, кто идет ко дну — грешник. Таким образом, согласно этим концепциям, богатство становится своеобразным вознаграждением, которым творец наделяет в этом мире избранных в качестве компенсации за их деловитость. Полностью отдаваться своему делу, каким бы оно ни было, — в этом и есть служение спасителю. Творец «избрал» кого-то банкирами — пусть занимаются счетами и капиталами. Других он сделал врачами — пусть лечат больных. Третьих поставил быть инженерами и строить мосты, а четвертых пустил бороздить на кораблях океаны. Никто не имеет права бросить дела, предначертанного ему свыше, никто не имеет права раздумывать над тем, лучше его занятие, чем у другого, или нет. Это означало, что человек отважился критиковать божественную волю!