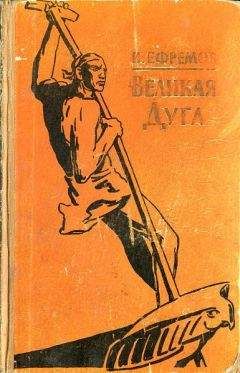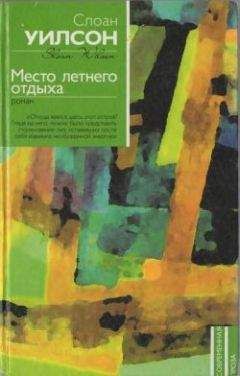Эмине Эздамар - Мост через бухту Золотой Рог
Уже целую неделю мы были в Берлине. И тут Изувер захотел, чтобы десятого ноября, в день смерти Ататюрка, мы все, как в Турции, ровно в пять минут десятого встали и почтили память Ататюрка минутой молчания. Десятого ноября в пять минут десятого в цехе радиозавода мы встали возле наших столов, и опять правый глаз у всех у нас был больше левого. Те из работниц, кому захотелось всплакнуть, плакали правым глазом, поэтому слезы текли у них по правой груди и капали на правую туфлю. Слезы в память Ататюрка оросили пол заводского цеха. Однако неоновые лампы на потолке и над рабочим столом были достаточно сильные и быстро осушили эти слезы. Некоторые работницы, когда вставали в честь Ататюрка, позабыли вынуть из правого глаза лупу, и слезы у них натекли в лупу и замутили увеличительное стекло.
Самого Изувера мы никогда не видели. Турецкая переводчица доносила до нас его немецкие слова уже в турецком изложении.
— Изувер сказал, что вам следует…
Поскольку я никогда Изувера не видела, я пыталась разгадать его черты в лице переводчицы. Она приходила, и тень ее падала на крохотные радиолампы, разложенные перед нами на столах.
Во время работы все мы жили в одинаковом, увеличенном лупой мирке: собственные пальцы, неоновый свет, пинцет и крохотные радиолампы с их паучьими проводками-ножками. У этого мирка были свои шумы и свои голоса; погружаясь в него, ты как бы отрешался от звуков остального мира и от собственного тела. Не чувствовал собственного позвоночника, собственной груди, даже волос. Иногда, впрочем, приходилось шмыгать носом. Так вот, даже это шмыганье носом человек оттягивал до последнего, как будто оно способно было вспугнуть и разрушить странный, увеличенный мирок вокруг него. Но когда приходила турецкая переводчица и в этот мирок падала ее тень, в сознании все обрывалось, как в кино, когда во время сеанса рвется пленка: звук пропадал, и вместо изображения появлялась дыра. Поднимая глаза на переводчицу, я снова начинала слышать гул самолетов где-то высоко в небе или звякающее эхо от упавшей на цементный пол железяки. Я видела, как именно в то мгновение, когда мои товарки прерывали работу, на их плечи начинала падать перхоть. Словно почтальон, доставивший заказное письмо и дожидающийся росписи в квитанции, переводчица, переведя нам немецкие слова Изувера на турецкий, терпеливо дожидалась, пока мы не скажем «о'кей».
Если какая-то из работниц вместо английского «о'кей» отвечала турецкое «тамам», переводчица переспрашивала: «О'кей?» — и не отходила, не дождавшись ответа по-английски.
Если же работница, боясь оторваться, чтобы не допустить брак, — она как раз загибала пинцетом тонюсенькие проводки в крохотной радиолампе или проверяла, глядя в лупу, правильно ли они загнуты, — отвечала ей не сразу, переводчица не отходила, только нетерпеливо сдувала со лба свою конскую челку, пока до ее слуха не донесется долгожданное «о'кей».
Отправляясь с ней к заводскому врачу, мы просили:
— Скажешь врачу, что я правда больна, о'кей?
Словечко «о'кей» постепенно укоренилось и в общитии.
— Уберешь завтра комнату, о'кей?
— Тамам.
— Скажи «о'кей».
— О'кей.
В первые дни город представлялся мне одним нескончаемым зданием. Даже пространство между Мюнхеном и Берлином тоже показалось зданием. В Мюнхене вместе с другими женщинами из дверей поезда мы сразу перекочевали в двери миссии, вокзальной комнаты милосердия. Булочки — кофе — молоко — монахини — неоновые лампы, потом из дверей миссии в двери автобуса, из дверей автобуса на трап самолета, из дверей самолета, уже в Берлине, снова в двери автобуса, оттуда в двери турецкого женского общития, из дверей общития — в двери универмага «Герти» прямо здесь же, у метро «Халлешес Тор». От дверей общития до дверей «Герти» идешь как по коридору под метромостом. В «Герти» на последнем этаже были продукты. Мы, трое девчонок, отправились туда покупать сахар, соль, яйца, туалетную бумагу и зубную пасту. А слов — то не знаем. Сахар, соль… Чтобы описать сахар, мы изображали продавщице, будто пьем кофе, и приговаривали «шак-шак». Чтобы получить соль, мы с отвращением плевали на пол шикарного универмага и, высунув языки, говорили: «Э-э-э!» Дабы описать яйца, мы повернулись к продавщице спиной и, вертя задами, дружно закудахтали: «Куд-кудах, куд — кудах». Мы раздобыли сахар, соль и яйца, а вот с зубной пастой опростоволосились. Вместо пасты нам выдали чистящее средство для кафеля. Так что моими первыми немецкими словами были: «шак-шак», «э-э-э» и «куд-кудах».
Мы поднимались в пять утра. В каждой комнате было по шесть коек, по три пары в два яруса.
В моей комнате на первой паре коек спали сестры, обе незамужние. Главное их желание было скопить денег, чтобы перетащить в Германию своих братьев. О братьях обе говорили так, словно те жили давным-давно и совсем в другой жизни, так что иногда мне казалось, что они говорят об умерших. Когда какая-нибудь из них плакала или капризничала за едой или просто кашляла от простуды, другая ее укоряла:
— Твои братья не должны слышать такого. Если бы твои братья это услышали!
Придя с работы, они тотчас же переодевались в голубые халаты из какой-то вечно наэлектризованной синтетики. Когда у них начинались месячные, электричеством заряжались и их волосы, а наэлектризованные халаты издавали странное электрическое потрескивание. Когда одна из них вставала и в сырой утренней полутьме надевала туфли, она нередко по ошибке надевала сестринские, и ее ноги этого не чувствовали, настолько похожа была у обеих обувь.
Вечером, после работы, женщины возвращались к себе в комнаты и садились за стол ужинать. Однако после ужина не наступал вечер, вечеров у них не было. Они садились ужинать лишь затем, чтобы поскорее затащить к себе в комнату ночь. Так и перескакивали прямо из дня в ночь, минуя вечер.
Сестры садились за стол, устанавливали рядом с кастрюлей зеркало и, извлекая бигуди из горячей воды, начинали делать завивку. У обеих чулки уже были спущены ниже колен.
Их голые коленки были для меня сигналом: значит, скоро будут гасить свет. Обе говорили друг с дружкой так, словно, кроме них, в комнате никого и нету.
— Поторопись, нам надо выспаться.
— Свет сегодня кто выключает, ты или я?
Одна уже стояла у двери, рука на выключателе, и ждала, пока вторая уляжется в койку. Та водружала голову на подушку с такой осторожностью, будто паркует машину задом. Наконец, когда голова была уложена, она командовала:
— Выключай.
И ее сестра гасила свет.
Мы, остальные четверо, еще сидели за столом, некоторые даже писали письма. Упавшая темнота мгновенно разобщала нас. Во тьме мы молча раздевались. Иногда со стола падал карандаш.
Когда все оказывались в кроватях, наступала тишина, и только зловеще потрескивали на крючках два голубых халата.
С моего стамбульского детства я привыкла, ложась спать, молиться за мертвых. Сперва читала про себя молитвы, потом повторяла имена тех мертвых, которых сама не знала, но про которых слышала. Моя мама и бабушка, когда рассказывали, часто говорили про людей, которые уже умерли. Я знала их имена наизусть и каждую ночь, ложась в постель, повторяла их, посылая молитвы их душам. Это продолжалось целый час. Моя мама говорила: «Когда умерших забывают, их душам больно».
В первые ночи в Берлине я тоже молилась за умерших, но я была ужасно усталая, а поднимались мы в несусветную рань. Поэтому я часто засыпала, не успев перечислить имена всех моих умерших. Так и вышло, что постепенно я растеряла в Берлине всех своих мертвых. Я утешала себя: вот вернусь в Стамбул и снова начну всех поминать. Словом, про мертвых я забыла, но про маму — нет. Я ложилась в кровать с мыслью, что буду о ней думать. Только вот как это — думать о маме? Влюбиться в какого-нибудь киноактера и думать о нем всю ночь — ну, например, как я буду с ним целоваться — было куда легче.
А о маме — как о ней думать?
Иными ночами я, словно в фильме, который перематывается на начало, бежала от дверей общития на вокзал, к поезду, которым сюда приехала.
И поезд в моих грезах тоже отправлялся назад. Назад бежали мимо окон деревья, только слишком долог был мой путь, обычно я успевала добраться только до Австрии. Там неприступные горы прячут в тумане свои вершины, и было ужасно трудно заставить поезд двигаться задом наперед через этот туман. В этом тумане я обычно и засыпала. Еще я заметила, что чаще думаю о маме, когда долго не ем и хожу голодная или когда заусенец на пальце до крови сдеру и мне больно. Мне тогда казалось — эта боль и есть моя мама. И я стала чаще ложиться спать на голодный желудок и с ободранными в кровь пальцами.
Резан, что спала надо мной, тоже толком не ела. Значит, решила я, она тоже думает о своей маме. Резан подолгу не могла заснуть и в темноте все ворочалась надо мной в своей койке слева направо, потом перекладывала подушку в изножье и через некоторое время начинала ворочаться справа налево. Лежа внизу, я одной половинкой головы думала о своей маме, а другой невольно думала о маме Резан.