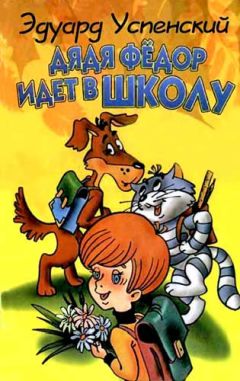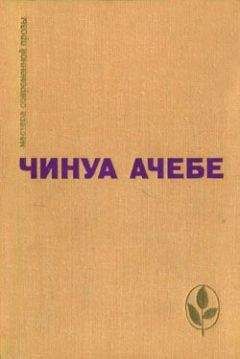Залман Шнеур - Дядя Зяма
— А што такое армия?
Зяма немного подумал и браво ответил:
— Армия, ваше благородие, это люди… это много людей, которые не смогли освободиться от призыва…
Зяма и сегодня не может объяснить, действительно ли он так думал, или это у него само вырвалось, или же он специально сказал так, потому что злился, и со злости так опасно и горько пошутил… Как бы то ни было, в тот раз он легко отделался. Офицер, учивший солдат «словесности»[9], расхохотался и сказал, что впервые слышит, чтобы жид говорил правду, да к тому же безо всякого страха.
— Молодец! — добавил офицер. — Из тебя выйдет настоящий сукин сын.
По правде говоря, Зяма, пожалуй, никогда, даже в худшие минуты своей жизни, не терял здорового и спокойного чувства юмора. Зяма был полной противоположностью своему нервному брату, дяде Ури, с его ученой желчностью. Военная служба закалила Зяму, но не заставила его огрубеть. Отслужив, он и в гражданской жизни стоял, подобно дубу, крепко и прямо. Ничего не принимал слишком близко к сердцу, в крайнем случае — только делал вид.
Много позже, когда Зяма уже отпустил бородку, а на упрямой его голове появились первые седые волосы, у его жены Михли случились гораздо более трудные, чем обычно, роды. Тогда она родила ему его младшенькую — Генку. Роженица исходила криком, а Зяма успокаивал ее на свой манер:
— Ничего, ничего, жена! Бесплодной быть куда как хуже…
Михля вышла из себя из-за такого хладнокровия. Она истерически заверещала, обращаясь к повивальной бабке:
— Где субботние подсвечники, где? Ради Бога, я хочу швырнуть их ему в голову, выкресту этакому! Что он против меня имеет, разбойник?! Дрянь такая!
Зяма же по-доброму усмехнулся и, расхаживая по комнате, затеребил бороденку:
— Тихо, Михля, не кричи! А если не можешь — так не берись…
3. Дяде Зяме не нравится Польша
Отслужив, Зяма еще ненадолго остался в Варшаве. Он решил осмотреться. Домой его не особенно тянуло. Его отец тогда был уже стар и болен. Дом он поделил между двумя старшими, выданными замуж дочерями — Блюмкой и Эткой. Умник Ури, знаток Торы, сидел на содержании у тестя. Зяма и сам не знал, к чему теперь приспособить свои хорошо поработавшие, мозолистые руки и длинные ноги, слегка искривившиеся от верховой езды. Варшаву он уже немного изучил. Зяма стал искать себе занятие в городе, но долго в нем не пробыл. От польских евреев он отскакивал, как от стенки горох. Пришлось ему податься домой, в Шклов, а оттуда перебраться в Москву. Дело было еще до изгнания[10], так что литовские и белорусские евреи в Москве катались как сыр в масле.
После Варшавы Зяма крепко невзлюбил польских евреев. Там его дурачили и на Багно, и на Валовой[11], и у него сложилось впечатление, что таково все польское еврейство. В поношенном цивильном костюме, который ему всучили как раз на Валовой, Зяма растерял свою солдатскую стать; уличные мальчишки издевались и над тем, как он выглядел, и над его выговором[12].
С тех пор у него осталось присловье, которое он употребляет, рассказывая о себе, да и просто при случае:
— Я, хвала Всевышнему, литвак крестоголовый![13]
Так он отделяет себя от польских евреев, давая понять, что на него-то как раз очень даже можно положиться.
Однажды, когда Зяма уже сам разбогател, ему рассказали, что один шкловский скоробогач женил своего старшего сына на девице из Польши. Сынок познакомился с ней в Варшаве. Зяму это не на шутку задело: он принял новость близко к сердцу и обрушился на Варшаву так яростно, метал такие громы и молнии, как будто бы польская невестка предназначалась для его собственного единственного сына.
— Как же так, реб Зяма, — возразили ему, — Варшава — еврейский город, «град народа Израилева».
Зяма увидел, что хватил лишку, и принялся оправдываться:
— Вот послушайте, люди добрые, спрашиваю я там как-то у местного, как пройти на одну улицу… Такой, кажется, приличный человек, с красивой длинной бородой. Он даже не обернулся. Как будто бы меня и на свете нет. Решаю, что он, не дай Бог, глухой. Спрашиваю громче: «Извините меня, уважаемый, где такая-то улица?» Он едва глядит на меня, дергает себя сердито за русую бороду — и опять не отвечает. Бежит вперед, а я — за ним. Спрашиваю его в третий раз: «Извините… уважаемый! Уважаемый!» Тут он на мгновение останавливается, смотрит на меня, как на щенка, который трется о полу его задрипанной капоты, и идет себе дальше. Я уже начинаю сердиться. Я ему не сопляк какой-нибудь, я — отставной солдат, да к тому же на голову его выше. И меня страшно все это злит: что еще за манеры такие? «Уважаемый, — спрашиваю я его уже несколько резче, — где тут у вас такая-то улица?» Тут этот тип поворачивает ко мне морду, растопыривает свою бороду веником и разевает пасть так, что я уж подумал — он меня живьем проглотит. «Гля, — говорит он, — на эту литвацкую свинью!»[14] Это он так говорит. «Тут вон людей — целая улица, а ён к мине причепился?» Это значит: ко мне…
— Неужели, реб Зяма? — шкловцы так и тают от этой истории. — Надо же повстречать такого невежу…
— Да уж, невежа! — продолжает дядя Зяма. — Я, хвала Всевышнему, литвак крестоголовый! И не было еще случая, чтобы мне там по-другому ответили. Вот послушайте: как-то раз занесло меня на Млавский двор. Есть в Варшаве такой двор. Он будет не короче какой-нибудь улицы у нас в Шклове. Что правда, то правда! Я там искал торговца необработанными шкурами. Сил нет, как он мне был нужен. Стояло лето. Торговля шла плохо… Вижу, стоит посреди двора коротышка, копается у себя в бороде и разглядывает меня любопытными блестящими глазенками. Я его спрашиваю: «Уважаемый, может, вы знаете, где-то здесь живет Башка? Он торгует…» А этот человечишка как заорет на меня: «Где-е-е?!» Объясняю ему отчетливо: «Баш-ка. Еврей. Торговец». Человечишка снова рычит на меня, и так злобно, представьте себе, как белфер на мальца: «Нислысу!» То есть он не слышит. Тут я уже кричу не своим голосом: «Башка, где тут живет Башка?» Человечишка кричит в ответ: «Нислысу!» Говорю ему тихо, умоляюще: «Я спрашиваю, где живет пан Башка?» У того человечишки что-то клокочет в горле, будто он отхаркивается: «Нпнимаю!» То есть он не понимает. Тут я уже повторяю ему все по складам: «Где. Живет. Здесь. Еврей. Торговец. Баш-ка. Его зовут…» Тут только он понимает, что к чему, человечишка этот: «А-а! — говорит он в нос и вдруг — отрывисто: — Пшебешинский? Я нзнаю…» И тут же делает мне знак пальчиком и строго командует: «Ди-бе!» То есть, — объясняет Зяма, — он понятия не имеет. Идите себе!.. А как из «Башки» получился «Пшебешинский» — этого я до сих пор не знаю так, как дал бы мне, крестоголовому литваку, Всевышний, хвала Ему, не знать в жизни никакого зла. А может, вы знаете?
Дела дяди Зямы
Пер. М. Бендет и В. Дымшиц
Еще лет за десять до выселения евреев из Москвы дядя Зяма торговал вразнос по Зарядью[15] гойскими одежками. Лавкой ему служили собственные плечи. Был он высок и широк в кости, и с его широких, закаленных солдатчиной плеч свисали плюшевые штаны, красные русские рубахи, разноцветные кушаки. Его узкие черные глаза искрились весельем честного, но тертого торговца, сразу всё подмечали, всё постигали и видели всех насквозь.
Постоянными его покупателями были, в основном, бравые русские молодцы из Замоскворечья. Плюшевые штаны с Зяминых плеч они примеряли прямо на месте, на рыночной площади, у всех на глазах, танцуя на одной ноге, чтобы не запачкать еврейский товар. При этом Зяма не сводил с них своих лихих солдатских глаз. По старой казарменной привычке, оставшейся у него с тех пор, как он ходил за лошадьми, Зяма частенько покрикивал на своих озорных покупателей, как покрикивают на жеребчиков, когда те по молодости рвут поводья:
— Стой! Коняги… Тпррррру, ко всем чертям!
Или:
— Назад! Задний ход…
Проще всего было продавать крепким молодым кацапам красные рубашки с синими кушаками. Во время примерки Зяма тут же вытаскивал из внутреннего кармана круглое зеркальце в жестяной рамке, с полуголой девицей на оборотной стороне. Для начала он показывал покупателю, как тот хорош в обновке. Затем переворачивал зеркальце и демонстрировал ему девку с растрепанными светлыми волосами. Так покупатель-гой получал двойное удовольствие: и от себя самого, и от полуголой девицы… Да, хороша она, хороша «стерва», вот только, мать ее растак, никак не ухватишь…
Но хотя намалеванную красотку-шиксу было никак не ухватить, она все же распаляла молодых кацапов, подогревала их желание нравиться… И потому Зяма всегда быстро разбирался с ними, выручая за свой товар лучшую цену. Что правда, то правда, своих покупателей он знал как облупленных.