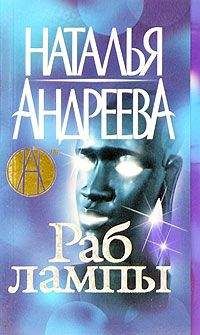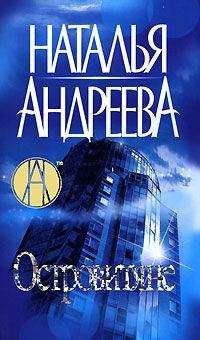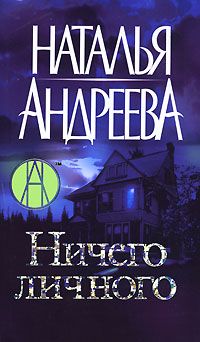Дарья Вернер - Межсезонье
Кофе не допивается, завтрак – комком в горле, телефонный звонок, точный адрес, номер подписывается в печать во столько-то. На работу. В метро люди кажутся живыми трупами, на лицах – безмолвный ужас. Стоит кому-то увидеть сверток, пакет, сумку, забытую или брошенную, люди превращаются в близнецов – одинаковое выражение лиц, одинаковые мысли, одинаковое поведение. Никогда не думала, что страх делает нас такими похожими друг на друга. Что все люди – братья только в смерти.
Каждый раз страх – холодной волной паники, ледяными кончиками пальцев и животной тошнотой – заново возвещал приход смерти. Она шептала в ухо что-то свое, неразборчивое, в первый раз за всю жизнь подойдя так близко. А до этого только приучала к мысли, что она – есть.
Впервые это случилось в детстве. Когда вместе с родителями пошли в перерыве между их репетициями гулять. И, проходя мимо бирюзовой Елоховской церкви, зашли внутрь. Резко пахнуло ладаном, грязным бельем и еще чем-то неуловимым, тошно-сладким. Сразу же стало ясно, что чужой запах шел от гроба, стоящего у расписанной грустными святыми колонны. Восковой желтизны, гладкий, почти блестящий лоб пересекала бумажная полоса с иконкой, руки, закостенев, беспомощно были сложены на груди, где-то почти под подбородком. Неудержимая муть и ужас подкатили резко к горлу, и захотелось прочь, сейчас же, сию минуту. Прочь от восковых отблесков на мертвом лбу и тошного запаха смерти.
В следующий раз смерть подступила с другой стороны. Она хотела непременно показать, что умеет быть другой и вызывать не тошноту, а только сосущую тоску в груди. Бабушку везли на кладбище долго, в маленьком похоронном автобусе. Гроб стоял точно посередине, вокруг сидели тихо родственники. На поворотах и ухабах крышка, обитая дешевым голубым ситцем, слегка подпрыгивала и металась из стороны в сторону. И мерещился в залитом первым солнцем автобусе ужас, будто поднимается крышка, и то, что еще неделю назад было бабушкой, выглядывает оттуда. И некуда деться из этого тесного автобуса, от этих запавших, ввалившихся глаз, которые могут вдруг открыться и укорить в том, что не сделали, не договорили, не дочувствовали. То, что лежало там, внутри, могло быть чем угодно, только не бабушкой. Острый нос с впавшими, будто склеившимися, крыльями и глубокие ямки глаз, сухонькая голова в платочке – все, что оставила смерть напоследок. Наверное, чтобы не оплакивали так горестно, чтобы отделить живущего от его посмертного образа.
…Плюшевый заяц в обломках дома, тонны спасательной техники, людские ручейки – родственники, соседи и мы, журналисты. Вроде никого из знакомых не коснулось? Нет, в бухгалтерии девочка не вышла на работу, жила, кажется, именно там – на улице Гурьянова, где смело с лица земли целые подъезды.
– Дозвонился им кто-нибудь?
– Телефон не отвечает.
Потом – старая женщина с черной косынкой, старик с красными невидящими глазами. Детей и внуков – внучка, та самая девочка из бухгалтерии, – они уже опознали. Никто случайно не ушел к приятелям, никто не ездил на дачу, никто не спасся…
За то, что они испытывали там, под обломками, в последние минуты и часы, можно было простить все грехи и причислить к лику святых – думала я, не зная, что сказать старикам. Как вообще обращаться со смертью – нам же никто не сказал. А церковь не признает коллективного мученичества, канонизируют только избранных. И тут – очередь, конъюнктура, кумовство…
Не хочу быть святой и канонизированной, я хочу жить. И выдрать из себя наконец этот страх, вспомнить, какой я была «до смерти». Тогда – казалось мне – можно спастись, от чего-то, для чего-то.
Но – нет.
Меня – нет. Я совсем уже умерла.
Стационар
«В позе Ромберга пошатывается». И ниже: «Пища выливается через нос». На медицинском бланке – контурной карте моих душевных недугов – пока еще ничего не отмечено.
Толстая невропатолог районной поликлиники – больше похожая на уютную, рыхлую булочницу, – задумчиво чешет нос, стукает молоточком по коленке, щупает пульс, пишет что-то неразборчивое в пухлой карте и тяжело вздыхает.
Я бежала сюда, а внутри все тряслось – мелко, подло, болезненно. Это необходимость идти сегодня на работу превратила меня в студень – в момент. И репортаж, где с первых кадров ясно: взорвали еще какой-то дом, кажется, на юге. Собирать материал для репортажа – опять мне.
Просто по картинке – груды кирпича в утреннем тумане – было понятно: на этот раз выживших, скорее всего, не будет. Все, кто, как и я, взбил вечером подушку, стряхнул привычным движением мягкие тапки на пол и подложил под щеку ладонь, засыпая, уже никогда не проснутся.
Руки у меня до сих пор трясутся – они живут отдельной, своей жизнью.
– Мама в коридоре, – еле слышно произношу я.
За эти недели – как быстро сходят с ума, я всегда думала, что это совсем иначе, – я превратилась снова в младшую школьницу. На улицу получается выйти только за ручку с мамой.
Будто не было института, психологических тренингов, чтобы избавиться от застенчивости, работы на радио и самостоятельных поездок за границу. Вместе с домом на Гурьянова рухнула и я. И не было даже сил подумать – отчего я оказалась такой хлипкой, без добротных перекрытий и хорошего бетона.
Тело – как и душа, если она у меня есть, конечно, – расклеилось. Оно отказывалось нести меня, отказывалось идти на работу. Вдруг адской болью скручивает ноги – от косточки бедра вниз, до колена и ниже стреляет, тянет, рвет невыносимо; невозможно ходить, сидеть, лежать, какие там обезболивающие. И – диагноз: запущенный артроз («А что вы удивляетесь, и в двадцать три бывает, если неудачно дело пойдет»). Процедуры, уколы, все туфли на каблуках – в мешок и в помойку, навсегда. Все это – и болезни, и постоянные визиты к невропатологу – как бы оправдывают для меня собственный животный страх и уход в мир личной боли. Я задыхаюсь в себе, превращаюсь в кокон, из которого невозможно вырваться, – и тут же объясняю себе все болезнью. Я больна – поэтому кокон, звериная паника и боль.
Невропатолог говорит обо мне с мамой – а мне кажется, что это не про меня, что вокруг – вата, много ваты. «Смените место жительства – ну не знаю, езжайте в деревню годика на два. И хорошо бы работу другую. Иначе поручиться ни за что нельзя, закончит в клинике».
В деревню. Я силюсь себе представить. У родителей в театре был смешной дядька – характерный актер. На посиделках после репетиций он то и дело пел похабные частушки: «Хорё-о-о-к (протяжно, окая). Да по завалинке пробё-о-ог. Хвать хорька за яйца, глядь – хорек валяется. Издо-ох». Однажды он оставил квартиру в Москве, работу в театре и уехал в глухую сибирскую деревню. Изредка приезжал к родным, и всем нехотя и с удивлением приходилось признавать – да, счастлив совершенно.
А смогу ли так я? Или мне нужен совсем другой стационар?
– Знаешь что? А отправим-ка мы в Вену тебя, – задумчиво щуря тщательно подведенные глаза – они всегда делали ее похожей на какую-то хищную кошку, – протянула редактор отдела Эвелина. – Ты же у нас говоришь по-английски? Вот и напишешь об австрийском телевидении.
Вена оказалась коробкой конфет – каждая в гнезде из слюдяной тонкой обертки.
Совсем рядом с домом, где жил Фауст, на площади Фрайюнг – такой странно средневековой, будто стоит отвернуться, и выйдут из-за угла монахи-бенедиктинцы, закутанные в черное, устроят прямо на булыжной мостовой представление уличные актеры, шуты, мечтающие попасть ко двору, – продавали петрушку, взрезанную, похожую на ятаганы-полумесяцы, тыкву и крепкие, с горьковатым запахом, тюльпаны.
В кафе на Ринге – мраморные столешницы блестят так отчаянно, а кельнер смотрит так высокомерно, что робеешь еще больше, – шуршали газетами, насаженными на лакированный изящный каркас, усатые старики, и казалось, что они держат перед собой ноты.
Да, ноты – весь город словно разыгрывал по нотам симфонию собственного имени. На перекрестках цвели магнолии – акварельным, дымчатым, фиолетовым, расцвечивая корявые, разлапистые деревца. Звенели бело-красные круглоносые трамваи, огибая стрельчатую, словно кружевную, Обетную церковь.
Около высоких столиков на улицах щеголи в безупречных пальто, начищенных до блеска дорогих витрин туфлях и модных шарфах пили шампанское из высоких тонкостенных бокалов, переворачивающих с ног на голову, преломляющих шафранным, пенным покрытый патиной купол цейхгауза на Ам Хоф и позолоченную еще в прошлом веке вывеску ресторанчика «У черного верблюда».
Из музыкального магазина при Опере рвался на улицу «На прекрасном голубом Дунае» мощными аккордами, повторяющими биение сердца, поднимая от земли.
И мягкий немецкий – совсем не лающий, как пугающее, привычное с детства, по фильмам «хенде хох!», – а обволакивающий говор, неожиданная смесь славянского, французского и итальянского. Он тоже притягивал, нежно приучал к себе, подсаживал, как на наркотик – его певучесть хотелось слышать еще и еще.