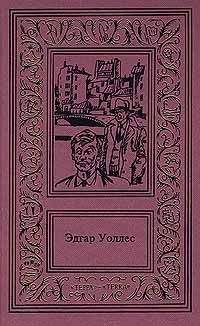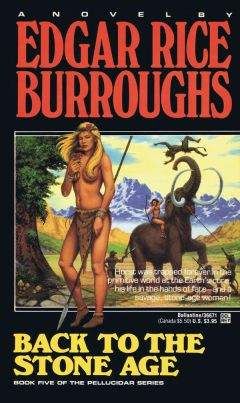Антонио Муньос Молина - Польский всадник
«Кто это, – снова спросил он себя, – куда скачет и с каких пор?» Сколько лет и в скольких местах смотрел майор Галас на эту темную гравюру, изображавшую всадника в татарской шапке, с колчаном и луком, привязанными к седлу: правая рука гордо лежит на поясе, а левой он держит лошадь за уздцы, глядя не на дорогу, едва различимую в ночи, а в даль, недоступную глазам зрителя, пытающегося разгадать его тайну и имя. Он поднял с пола шелковый халат, надеваемый ею после душа и соскальзывающий потом, как струйки воды, со свежей благоухающей кожи. Он вдыхал аромат халата, пока не увлажнил его своим дыханием, приготовил кофе, посмотрел на кухонные часы, показывавшие неправильное время, потому что она и не подумала их перевести, когда об этом оповестили газеты и власти. Он вернулся в спальню с чашкой в руке, поставил едва слышно диск Бола де Ньеве, который они слушали прошлой ночью, и, остановившись на пороге и тихо напевая слова болеро, снова стал смотреть на нее с внимательной нежностью, вновь пробуждавшей желание и вызывавшей дрожь в коленях, словно ему было шестнадцать и он впервые видел спящую обнаженную женщину, едва прикрытую одеялом. Он смотрел, наслаждаясь беспрепятственностью, с какой мог любоваться ею и разбудить ее, жадно лаская языком или пальцами. «Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя», – думал он и тихо повторял ее имя:
– Надя, Надя Эллисон, Надя Галас… – Каждый раз с модуляцией одного из тех языков, которыми он зарабатывал на жизнь.
Потом, опустив глаза, он посмотрел с иронией и гордостью – почти тщеславием – на моментальную и мужественную реакцию своего тела на то, что он видел.
«Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь», – читала Надя в Библии, принадлежавшей дону Меркурио. И, чтобы не поддаться соблазну снова разбудить ее, он надел брюки и вернулся к сундуку Рамиро Портретиста и архиву всех фотографий, сделанных им в Махине за сорок лет: они в беспорядке лежали на полу, диванных подушках, некоторые были вертикально прислонены к корешкам книг на полке рядом с цветными фотографиями сына Нади. Он вспомнил никогда не открывавшийся сундук, стоявший на чердаке в доме его родителей, где он спрятался однажды, когда ему было семь или восемь лет, и спасительные сундуки, которые в романах находят потерпевшие кораблекрушение на берегу необитаемого острова. Для него не существовало отдельных фактов и вещей, неповторяющихся ощущений, не находящих отзвука слов, изолированных мест: своим сознанием, взглядом и даже кожей он чувствовал, что все вещи связаны между собой в пространстве и времени, все принадлежит к никогда не прерывающейся цепочке между прошлым и будущим, между Махиной и всеми городами мира, где он побывал наяву или в воображении, между ним самим и Надей, и этими лицами на черно-белых фотографиях, на которых можно различить и связать не только факты, но и самые далекие истоки их жизней. С трудом веря в это, он снова увидел себя сидящим на картонной лошадке, когда ему было три года, на ярмарке в Махине, в кордовской шляпе, полосатой рубашке, коротких штанишках, белых носках и лакированных ботинках. Ему показалось невероятным, что именно здесь, в другом мире, таком далеком от прошлого, к нему вернулась эта фотография, давным-давно потерянная и забытая. Он увидел своих родителей в день свадьбы, прадеда Педро, сидящего на ступеньке дома, инспектора Флоренсио Переса в его кабинете на площади Генерала Ордуньи и врача дона Меркурио, склонившего свою дряхлую голову над большими страницами Библии. Он снова увидел лицо женщины, замурованной в Доме с башнями, и ее глаза, ослепленные темнотой и смертью, увидел своего деда Мануэля в форме штурмовой гвардии и подумал, что пора вернуться в Махину – теперь, когда этот город уже не может причинить ему вреда и опутать своими сетями: вернуться с Надей, чтобы показать ей места, которые она едва помнила, и, обнявшись, гулять, по крытым галереям на площади Генерала Ордуньи, по улице Нуэва, бульвару Санта-Мария, по мощеным тротуарам, ведущим к площади Сан-Лоренсо и Дому с башнями. Шептать ей на ухо, касаясь губами волос, прижимать к себе со страстью и уверенностью в том, что он принадлежит ей – счастье, в шестнадцать лет казавшееся ему недостижимым. Он вспомнил звук дверного молотка в доме своих родителей и только тогда полностью осознал ту огромную пропасть, которая отделяла его от родного города: небоскребы, металлические мосты, индустриальные пейзажи, аэропорты, океаны, ночные континенты, где реки сверкали под луной и города казались ледяными звездами, дни и месяцы путешествий по цветным пятнам карты мира, которую он рассматривал в детстве, будто глядя с головокружительной высоты на поверхность Земли. Но он уже не чувствовал ни тоски, ни беспокойства, ни страха, ни беспричинных угрызений совести, мучивших его всю сознательную жизнь и заставлявших жить в ожидании возможного наказания – внезапно обрушившегося несчастья. Он проспал всего несколько часов и чувствовал в своем теле невесомую усталость, вялость, звавшую снова вернуться в полумрак и тепло спальни.
Он осторожно закрыл дверь, чтобы не проникал свет из коридора, прислушался к дыханию Нади, спавшей с приоткрытым ртом, снял брюки и лег рядом с ней, прижавшись к ее бедрам и ногам, подтянутым к животу. Когда он наконец устроился и застыл с закрытыми глазами, ему снова показалось, что он вернулся в надежное пристанище и звуки города и утренний свет затихают, будто в середине дня или ленивым неподвижным вечером, – так же как после обеда, когда они ложились в постель и незаметно темнело. Часы их разговоров и ласк были дольше и безмятежней, чем в обычное время: они не стыдились друг друга, и это только усиливало их нежность, безумствовали и смеялись вместе, внезапно умолкали, напряженно глядя друг другу в глаза, с удивлением и страхом, как свидетели происходившего с ними чуда. А потом, утомленные, покрытые потом, обессиленные от любви, они слушали свое дыхание в тишине, и их губы и руки снова возвращались к ласкам, но уже без нетерпения, ноги сплетались под простынями – словно для того, чтобы постоянно чувствовать всегда желанное тело друг друга. Их голоса, погружаясь в воспоминания, становились таинственными, и время растягивалось в них, как замедленное движение реки, выходящей из берегов в илистой дельте. Они лежали, поддаваясь течению медленного потока слов, и постоянно говорили, повторяя слова из пыльной Библии, возможно так же пробуждавшие страсть в ком-то другом более ста лет назад: «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его». Повторяли имена и песни, слушали их снова через столько лет, не переставая удивляться, что любили одинаковую музыку в одном возрасте и имели общее прошлое, в котором, еще не зная друг друга, уже были вместе. Они жили вне дня и ночи, календаря и часов, как выжившие после кораблекрушения на необитаемом острове – острове голосов, принадлежавших не только им самим, но и наполнявших их воображение и память. Им снилось, что они продолжают разговаривать и снова смотрят бесконечные фотографии Рамиро Портретиста, а открывая глаза, видели фигуру всадника, скачущего на занимающемся рассвете или в только что наступивших сумерках. Этот одинокий и спокойный путник, настороженный, гордый, почти улыбающийся, оставляющий за своей спиной холм с очертаниями замка, казалось, едет без цели, в какое-то место, не видное на картине, с неведомым названием, и неизвестно ни имя всадника, ни долгота и широта страны, по которой он скачет.
*****Я вижу, как под ровно-фиолетовым, но еще не ночным небом постепенно загораются огни на смотровых башнях Махины, лампочки на углах последних домов, мерцающие и дрожащие, как пламя газового светильника, и висящие над площадями фонари: их свет колеблется, когда ветер качает натянутые между крышами провода, отчего мечутся в разные стороны тени одиноко бредущих женщин. Они шагают, опустив голову и уткнув подбородок в шерстяной платок, неся оловянный бидон или совок с раскаленными углями, припорошенными золой. На них надеты теплые шерстяные чулки, тапочки из черного сукна, куртки поверх фартуков, застегнутые до самого верха. Склонившись, женщины двигаются вперед против ночи и ветра, добираются домой, но все еще не зажигают свет и, оставив в прихожей совок с углями, идут за жаровней, наполняют ее до половины дровами и потом, набросав туда углей, выносят жаровню на порог, чтобы ночной ветер, легкий, как морской бриз, скорее разжег ее. Эта картина у меня не в памяти, а прямо перед глазами: я вижу, как в холодном полумраке этот огонь разгорается, в то время как тьма завладевает улицей. Я чувствую запах дыма и холода, золотистых и красных углей в голубом полумраке, кипящей смолы и мокрых оливковых дров, запах зимы, ноябрьской или декабрьской ночи, напоминающей своим немного тоскливым спокойствием затишье перемирия: несколько дней назад закончился забой свиней, но еще не начался сбор оливок. Я вспоминаю сумасшедшую женщину в черном платке, с собранными в узел белыми волосами: каждый вечер, когда начинает смеркаться, она крадучись, почти прижавшись к стене, идет по улице Посо, ворует брусчатку с ремонтных работ в Доме с башнями и возвращается, укрывая брусок под платком, как кошку. Она улыбается, стараясь скрыть свою радость, и что-то бормочет, будто разговаривая с этим камнем – то ли кошкой, то ли ребенком, который, как рассказывают, умер, когда она была молодой.