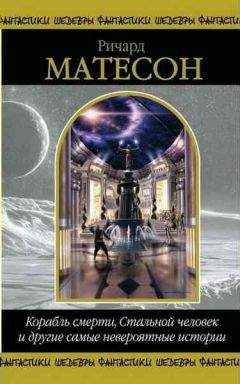Хулио Кортасар - Чудесные занятия
Мир искусства разнообразен. И столь же разнообразны кортасаровские новеллы об искусстве. Здесь и реалистический рассказ «безо всякого изобретательства» («Преследователь»), и притча («Бесконечность сада»), и гротеск («Менады», «Мы так любим Гленду»), и серьезно-ироническая «литературная игра» («Шаги по следам»), и фантастический рассказ («Письмо в Париж одной сеньорите», «Далекая», «Врата неба», «Кикладский идол», «Инструкции для Джона Хауэлла»).
II
Другое небо
Я выдумал тебя — я существую;
орлица, с берега, из тьмы слежу я,
как гордо ты паришь, мое созданье,
и тень твоя — сверкание огня;
из-под небес я слышу заклинанье,
которым ты воссоздаешь меня.
Казалось бы, определить, что такое фантастика, это так просто!
Но попробуйте-ка провести границу между «реалистическим» произведением и «фантастическим», отделить «правдивое отражение действительности» от «вымысла», яви от сна! Сплошь и рядом фантастика погружена в обыденное, или надо сказать иначе: обыденность погружена в фантастическое?..
Почти полтора столетия назад Достоевский (реалист? фантаст?) размышлял о «фантастических» рассказах Эдгара По: «Он почти всегда берет самую исключительную действительность, ставит своего героя в самое исключительное внешнее или психологическое положение, и с какою поражающею верностию рассказывает он о состоянии души этого человека!»[*].
Эти слова процитировал в своей книге «Проблемы поэтики Достоевского» М. Бахтин и, определяя главную особенность творчества великого русского романиста, переадресовал их самому Достоевскому. Но будет ли большим грехом, если переадресовать их и аргентинцу Хулио Кортасару (любившему и Достоевского, и Эдгара По)? Ведь и его главная задача: рассказать «с поражающею верностию о состоянии души человека» — в какое бы «исключительное внешнее или психологическое положение» он ни поставил своих героев.
Как понимал «фантастическое» сам Кортасар?
В уже цитировавшейся беседе с Гонсалесом Бермехой он дает такое определение: «…Фантастическое — это нечто совсем простое. Оно вторгается в нашу повседневную жизнь… Это нечто соврешенно исключительное, но в своих проявлениях оно не обязательно должно отличаться от окружающего нас мира. Фантастическое может случиться таким образом, что вокруг нас ничего не изменится с виду. Для меня фантастическое — это всего лишь указание на то, что где-то вне аристотелевских единств и трезвости нашего рационального мышления существует слаженно действующий механизм, который не поддается логическому осмыслению, но иногда, врываясь в нашу жизнь, дает себя почувствовать… Это в обычной ситуации причина вызывает следствие, и если создать аналогичные условия, то, исходя из этой же причины, можно добиться того же самого следствия… Но фантастическое происшествие бывает лишь раз, ибо оно соответствует лишь одному циклу „причина—следствие“, который ускользает от логики и сознания. Тем не менее его можно ощутить, но не рационально, а интуитивно».
Писатель стремится в своем творчестве — и своим творчеством — уйти от размеренной, скучной, логически выверенной повседневности в мир вымысла, где все существует лишь единожды. Постичь глубинную суть жизни. Увидеть «другое небо». И может быть, чем скучнее реальность, тем ярче солнце этого другого неба, тем необычнее игра воображения.
В данном случае вымысел близок к сновидению. (Сам Кортасар признавался: «Большая часть моих рассказов родилась из моих снов и ночных кошмаров и записана сразу по пробуждении».)
Сны «поселились» в литературе с давних пор и поныне «чувствуют себя» в ней преотлично. Сейчас, пожалуй, и не понять: то ли сны породили литературу, то ли литература — сны…
Русскому читателю вспоминается, наверное, прежде всего гениальный, тройной «Сон» Лермонтова. Есть сатирический «Сон Попова» А.К.Толстого и — бывший настоящим кошмаром для многих школьников моего поколения — «Четвертый сон Веры Павловны». Сны есть у Пушкина, у Гоголя, у Льва Толстого, у Достоевского.
Но у Кортасара был предшественник гораздо более близкий, чем Достоевский, — Хорхе Луис Борхес. Сон в творчестве Борхеса — и прозаика, и поэта, и эссеиста — играет исключительно важную роль. Но сны у Борхеса (да простят меня те, кто ставит его превыше всех) — это скорее комментарии к философским и культурологическим размышлениям, чем литературные произведения. Сны у Кортасара — это прежде всего литература. Это хитроумно построенный сюжет (например, «Истории, которые я сочиняю»). Его сны будят воображение. Они, конечно, «придуманы», но они не менее, а, пожалуй, даже более реальны, чем подлинная реальность.
Литературовед-испанист Всеволод Багно писал: «В основе фантастики Хулио Кортасара лежит двоящаяся реальность, хорошо нам знакомая по первому роману нового времени — „Дон Кихоту“ Сервантеса… Впрочем, не забудем и о разнице между двоящейся реальностью романа Сервантеса и новеллистики Кортасара. Между реальностью Дон Кихота и его окружения была граница. Кортасара прежде всего и неизменно влекла тема прорыва, растворения, перетекания, феномен пограничных ситуаций, возможность преодоления границы»[*].
Ряд рассказов аргентинского писателя строится на «провалах во времени» («Ночью, лицом кверху», «Секретное оружие», «Другое небо», «Все огни — огонь»). Может быть, «время» — это (как бы поученее выразиться?!) основная доминанта творчества Хулио Кортасара. В детстве, видимо, его мучил вопрос: почему время течет только из прошлого в будущее? Если вспомнить — у нас у всех было так, только потом, с годами, этот «детский» вопрос исчез среди «взрослых» проблем… Став взрослым (взрослым ребенком), Кортасар решил изменить ход времени в своей вселенной.
Какое время реально и какое вымышлено — для автора? Какое реально, какое вымышлено — для его героев? Как взаимодействуют эти времена? Вероятно, каждый из кортасаровских героев (из тех, кто, как и автор, наделен пространственным чутьем времени) ответил бы на эти вопросы по-своему.
А среди кортасаровских героев были не только люди. «Если произвести своеобразный статистический подсчет животных среди образов, созданных мной, то число это окажется огромным. Начать хоть с того, что первый мой сборник рассказов называется „Бестиарий“. Нередко у меня люди представлены в виде животных или показаны „с точки зрения“ животных… Моя территория фантастического действительно кишмя кишит животными. Я думаю, что это имеет какое-то отношение к области бессознательного, потому что у меня встречаются юнгианские архетипы. Тема быка, тема льва… Меня в животном мире завораживает — особенно на низшей его ступени, скажем, в царстве насекомых, — то, что там я сталкиваюсь с чем-то, что живет своей жизнью, но со мной не имеет никакой связи… И до сих пор не разгадана загадка улья, тайна муравейника, которые сами по себе тоже представляют социальную структуру, но такую, которой не знакомо понятие истории… Это значит, что животные развиваются вне времени — ведь история-то помещена во временной контекст — и до бесконечности повторяют одни и те же движения. А зачем, почему?»
Снова — «детские» вопросы Кортасара.
Все разнообразные миры могло объединить — конечно, кроме Бога — искусство. То искусство, где царит «роковая свобода» — свобода творца.
И, пожалуй, наиболее интересно сплетены реальность и вымысел в «буэнос-айресских рассказах» Кортасара («Оркестр», «После завтрака», «Здесь, но где, как», «Фазы Северо», «Во второй раз», «Записи в блокноте», «Танго возвращения»). Город, из которого он уехал в 51-м и который остался в «памяти сердца», что, как известно, «сильней рассудка памяти печальной», описан реалистически и точно до мельчайших подробностей (столь милых сердцу автора) — и в то же время фантастически[*].
Задача Кортасара состояла именно в том, чтобы создать не схему, а художественное произведение. Это важно для любого писателя. Для автора, создающего фантастическое произведение, — важно вдвойне.
Писать так, чтобы читатель поверил в реальность «вымысла», — это один из краеугольных камней эстетической программы творцов «нового латиноамериканского романа». Победил ты или нет, может решить только самый беспристрастный и неподкупный судья — время. Если оказался победителем — вымысел становится реальностью (для творца — единственной реальностью).
А Кортасар, по всей видимости — если учитывать, что для читателей его вымышленный мир существует как реальный уже добрых полстолетия, — оказался победителем. (Бывают и совсем уж фантастические случаи — это когда произведение и его герои начинают жить своей собственной жизнью. Так, например, в литературе и философии испаноязычных стран стало своеобразной традицией считать Дон Кихота более реальным, чем Сервантес. Но для этого надо быть гением из гениев!)