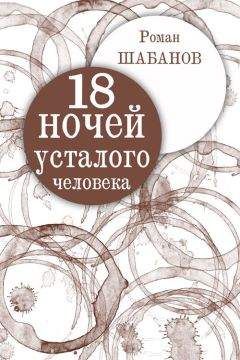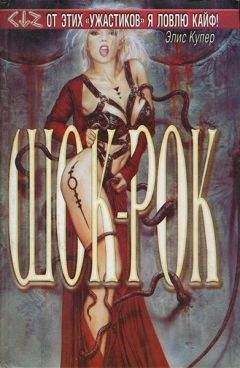Иштван Эркень - Избранное
Кажется, именно в этот момент до меня начало доходить, что значит правильно писать по-венгерски. Во всяком случае, я наверняка знаю, что именно тогда зародилось во мне жгучее — не осуществленное и поныне, — упорное желание научиться изъясняться по-венгерски так или почти так, как он. Разбитый в пух и прах, сгорая со стыда, сидел я над сплошь раскритикованной рукописью и вдруг поймал себя на мысли, что злость и досада мои улетучились вместе с остатками самонадеянности, а этот молодой человек с колючим взглядом мне очень даже симпатичен. Он, в свою очередь, улыбнулся и с великодушием полководца, возвращающего побежденному противнику боевой меч, спросил:
— У тебя есть деньги? Мы могли бы заглянуть в «Розовый куст».
— Есть, — с готовностью отозвался я.
— Жаль, — разочарованно усмехнулся он. — А то я хотел угостить тебя брынзой.
— Аттила Йожеф? Не знаю такого поэта! — раздраженно говорил мой отец, которому не по душе пришлись мои новые приятели. Поэтом в его глазах был Лёринц Сабо, ему не нравилось, что Аттилу Йожефа я упоминаю несравненно чаще. Впрочем, и Лёринца Сабо родитель мой жаловал не за стихи, которых попросту не читал. Будучи владельцем аптеки, он находился в близких отношениях со многими поэтами, но близость эта выражалась в конкретных суммах кредита. В отцовской шкале ценностей этот критерий был определяющим: поэтом считается тот, кому ты одалживаешь деньги. С Аттилой Йожефом отец сталкивался трижды, и каждый раз мне приходилось представлять его заново. Отец хоть убей не мог запомнить чудака, который не просил в долг.
Отец мой лелеял мечту, чтобы сын добился в жизни большего, чем он сам, и, помимо диплома фармацевта, получил бы диплом инженера-химика. Мне это было не в тягость, поскольку я обладал мышлением естественно-научного склада. Поразительное единение теории и практики, вещественное воплощение мысли, простое и ясное выражение сути вещей, заключенное в химической формуле, приводили меня в восторг. Вся химия, вплоть до органической, являет собой чистую, ясную формулу — ту незамутненную ясность, к которой я стремился всю жизнь. Способность предельно просто и ясно формулировать — это и есть разум.
Как впоследствии оказалось, вокруг журнала «Cen co» объединялось немало коммунистов, о чем меня, естественно, не ставили в известность, несмотря на наши дружеские отношения и бесконечные диспуты.
И вот однажды к отцу моему заявились два сыщика и весьма почтительным тоном повели разговор: так, мол, и так, ваше высокоблагородие, мы вынуждены вам сообщить пренеприятнейшую весть. А надо заметить, что отец страшно гордился тем, что он носит звание старшего правительственного советника, и всегда требовал, чтобы и обращались к нему соответственно. Только ведь природа всегда норовит посеять в сыновних душах ростки неприятия отцовских слабостей, так что отец своими амбициями навсегда вытравил во мне почтение к каким-либо титулам и рангам. Короче говоря, ваш, мол, сын попал в дурную компанию. «Мой сын? Да что вы говорите?!» — «Да-да, ваше высокоблагородие, этак и до беды недалеко… Позвольте дать совет, ваше высокоблагородие? Отправьте-ка вы сына в Париж или еще куда, с глаз долой да от греха подальше». Вот меня и отослали на год в Лондон и в Париж.
Париж я покинул в тот день, когда разразилась война: сел на последний поезд, который еще следовал через территорию Германии, и прибыл в Будапешт. В войну находиться вдали от семьи и от родных казалось неприличным. Дома, в Венгрии, пока еще царили блаженные мирные времена — никакой тебе паники или страха перед войной. Я вновь поступил в политехнический институт.
У меня не было особых причин считать себя писателем. Единственный готовый в ту пору роман я отнес в одно солидное издательство. Там его прочитали и вынесли вердикт: это хороший подражательный роман, а предпочтительнее было бы получить пусть слабый, но оригинальный. Тогда я со злости издал за свой счет сборник из двенадцати рассказов. Это и была моя первая книга.
Надо сказать, что меня частенько призывали на воинскую службу, я участвовал в маневрах, считался обученным солдатом и к началу войны дослужился до чина прапорщика.
В сорок втором году меня снова — Бог весть в который раз — призвали явиться в город Надьката. Стоял весенний день, я нарядился в парадную белую форму с черными петлицами и черные лаковые ботинки. Сел в поезд и с ходу познакомился с юной барышней, мы условились о свидании — сразу же, как только демобилизуюсь, тотчас и встретимся. В ту пору я ухаживал за дамами напропалую, и любовных приключений у меня было не счесть. Прибыл я к месту назначения, пошел доложиться по начальству. Семья наша еврейского происхождения, но мы с этим как-то не считались, темой разговоров этот факт не служил. Я окончил школу при монашеском ордене, был католиком. И вот докладываюсь я подполковнику Мураи, протягиваю повестку и вдруг замечаю, что перед моей фамилией отсутствует слово «прапорщик». Да ведь меня призвали в трудовой батальон!.. Мой парадный вид подполковник воспринял как неслыханную дерзость, граничащую с провокацией, и приказал немедленно подвесить наглеца. Процедура эта совершается следующим образом: человеку связывают руки за спиной и подвешивают за прикрепленную к запястьям веревку так, чтобы наказуемый лишь едва касался земли большими пальцами ног. По уставу эту процедуру положено совершать не иначе как в присутствии врача, но врача, конечно же, не было и в помине. Зато присутствовал Мураи. Подойдя ко мне, он срезал карманным ножиком звездочки с петлиц, сорвал нарукавные нашивки и завершил церемонию здоровенной оплеухой. Мне это было в диковинку, поскольку прежде никто и никогда не бил меня по лицу.
Описываемые события происходили как раз в то время, когда глава церкви ходатайствовал перед Хорти о том, чтобы трудбаты не поставляли на Украину бесконечные пополнения пушечного мяса, и ходатайство было удовлетворено. Однако Мураи, этот форменный маньяк — кстати, впоследствии его казнили, — спешно сформировал целый эшелон из трудбатовцев и той же ночью отправил на фронт. Компания подобралась на редкость разношерстная: были среди нас и евреи, скажем, весь еврейский состав коллегии адвокатов в алфавитном порядке, сектанты — назаряне и иеговисты, социал-демократы, а также члены партии нилашистов, которых не слишком жаловали при хортистском режиме.
Выгрузили нас у развалин какого-то русского городка, и вся II Венгерская армия двинулась пешим порядком к Дону — предстояло совершить марш-бросок в 2–3 тысячи километров. Советские войска при отступлении взрывали все железнодорожные пути, так что на нашу долю оставались лишь шоссейные дороги, вот мы и брели, покуда хватало сил. В последующие полгода наша военная служба сводилась в основном к этому пешему маршу, а попутно трудбатовцы обезвреживали минные поля, рыли окопы, устанавливали проволочные заграждения.
Во время крупного русского наступления мы находились в 12 километрах от фронта, так что прорыв не ударил по нам непосредственно, однако нас смело первой же волной отступающих. Развал в частях был полный. Я потащился было обратно, но вскоре сообразил, что для трудбатовца тут дело гиблое: на какое-никакое довольствие можно было рассчитывать лишь вооруженной боевой единице. Тогда я стащил форму с убитого фельдфебеля и взял под свое начало двенадцать человек. Путь отступления растянулся на 360 километров — я даже был ранен минным осколком, — но до Белгорода я так и не добрался, поскольку там сомкнулись неприятельские клещи. Еще каких-нибудь тридцать километров, и удалось бы выскользнуть из окружения. Словом, нас взяли в плен и развернули обратно. Русские сами не рассчитывали на столь быстрый прорыв, поэтому им некогда было возиться с пленными и оборудовать для них лагеря. Нам просто-напросто велели идти в тыл, и мы брели неделю за неделей навстречу нескончаемому потоку советских частей…
По сравнению с тем, что последовало потом, все ужасы войны кажутся нестрашными. Там мы были единой массой, плечом к плечу, прикрытые окопами и бетонными укреплениями и защищенные оружием, а здесь нас косил голод, погребала чужая земля, заносили снега. В тех степях погибли от мороза шестьдесят тысяч моих сотоварищей, и вероятность уцелеть была ничтожно малой…
С тех пор прошло много лет, но я поныне чувствую себя в долгу перед ними лишь потому, что пережил их. В большинстве своем люди замерзали с открытыми глазами, сидя вдоль обочин. Белые, окаменевшие лица обращены мне вслед, и я по-прежнему спиной ощущаю на себе их взгляд.
Здесь приходилось бороться за существование, и борьба эта убивала в человеке всякие чувства. Главное было выжить, и это стремление делало каждого эгоистом. Стоило увидеть у кого-то хлеб, и даже в голову не приходило, что это чужое; украсть и съесть — вот была единственная мысль. В обычных условиях вора подвергают остракизму, здесь колотили, не испытывая злобы. И не в силу какой-либо моральной ущербности, а от полнейшей апатии. Об этом состоянии — абсолютной, нулевой точке эмоций — художественная литература умалчивала. Возможно, потому, что примеры были редки. Но на сей раз примеров было тьма-тьмущая — многие сотни тысяч. В войну человеческая мораль, дойдя до определенного порога, перестает существовать. Словом, я дошел до гибельной точки и превратился в животное. Страх перед голодной смертью делает человека зверем.