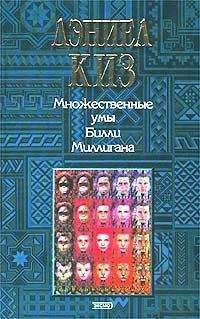Мария Арбатова - Меня зовут Женщина
Утром мы выныриваем из пуховых перин и отправляемся обменивать деньги. Мы боимся залезать в заветные фунты, тем более что родное правительство не выдало нам ни пенса на Петра и Павла, ведь, по представлениям Минфина, ребенок до четырнадцати лет, попа за границу, не ест, не пьет, не пользуется услугами транспорта и туалетов, то есть ведет себя, как чемодан. Четыреста фунтов, рассчитанные нами на посещение пяти стран, оказываются на деле одним обедом в приличном ресторане или двумя видеомагнитофонами, и то в Англии. Потому что в Германии только одним.
Утренние улицы оказываются праздничнее вечерних. На них толпятся киоски с надписью «запеканки». Больнично-столовское ругательство «запеканка» обозначает здесь сказочный блинчико-пирожок, чем-то начиненный, чем-то политый и стоящий половину джинсов. Хлебопечение в Польше традиционно считаете видом искусства, но советский турист меряет окружающее пространство джинсами, как мартышка из мультфильма — попугаями. Надо сказать, что наша ахиллесова пята — советские штаны детей; с каждым часом эта пята растет на фоне варшавских реалий, и, не будучи особыми пижонами, мы все же спешим освободить Петра и Павла от детскомировского силуэта.
Круглый стеклянный центральный банк распахивает утробу, набитую шевелящимися очередями, когда навстречу нам выплескивается вопящая, слезящаяся и кашляющая толпа. Из жестикуляции и проклятий мы понимаем, что кто-то прошелся по банку с газовым баллончиком: то ли ограбление, то ли борьба с длинной очередью. Глотки наши перехватывает, и мы бросаемся прочь, хотя остальные продолжают тусоваться, вытирая слезы и кашляя. Баллончики продаются на каждом углу по цене запеканки. Поляки привыкли к этому виду спорта. Девственные в смысле газовых баллончиков, мы боимся попасть в больницу со своим богатым словарем и советскими деньгами. Тут-то и подворачивается доброхот-соотечественник: «Деньги в Польше менять? Да не смешите! Завтра в Восточном Берлине поменяете, купите в сто раз больше. Детям штаны? Идите сейчас на рынок Ружевича и меняйте на кофе, какао, шпроты, тушенку».
Путь к рынку Ружевича лежит через центр, полный шикарных магазинов, отелей, рынков, набитых одеялами, кружевами и самодельными колбасами. Деликатесные киоски ломятся от угрей и устриц; фрукты всех стран, наше шампанское, шоколад «Аленка», измеряемые в джинсах, выглядят оскорбительно. Вдоль газонов, разложив, на траве ношеные, но мокрые для товарности вещи, поражая хорошими манерами, торгуют представители дна. Антикварные магазины и цветочные салоны, хлеб по цене духов, умопомрачительные меха на прохожих и люди, копающиеся рядом с ними в урнах. Кажется, что спекулирует вся Польша. В комнате пани Кристины лежит двухметровая стопка спортивных костюмов, ее дочка-студентка была на практике в Сингапуре. «Теперь надо ехать в Союз продавать их», — тяжело вздыхает пани Кристина. И тут же протягивает нам ключи: она пойдет в детский сад за Домиником и Паулиной, а мы можем прийти раньше. Это при том, что мы знакомы день, а кто такой Костя, она так и не вспомнила.
До рынка Ружевича добираемся, когда начинает смеркаться. Это сказочный городок разбойников, по очередям и палаткам разбрелись персонажи Феллини, чтобы взаимодействовать с польской любезностью и социалистической разнузданностью. Участвовать в этом маскараде не стыдно и весело. Достав шоколадку «Сказки Пушкина», я малодушно представляю себе лица московских знакомых, нарвись они на меня в эту минуту, А припоминаю, что Ходасевич и Ахматова торговали селедкой, когда литфонд отоваривал их продуктовые карточки только этим продуктом. Дети с интересом смотрят на меня, муж ждет, что уж сейчас точно заберут, и на этом вояж в Лондон счастливо закончится.
Видимо, я стою как соляной столб, и выражение моего лица не цепляет ни один спекулянтский глаз. Устав от профессиональной непригодности, я возвращаю «Сказки Пушкина» в сумку, и мы идем мимо рядов более удачливых коллег к выходу. И тут вдруг появляется женщина с вездесущим выражением лица, мгновенно, через сумку оценивает содержимое и истошно верещит:
— Пани русска! Пусть пани продаст рыбку!
— Какую рыбку?
— Рыбку! Пусть пани продаст рыбку! Рыбку!
Я вылавливаю в сумке банку шпрот, пани стонет от счастья и трясет бумажками. Злотые в сумерках рынке надо очень тщательно проверять, потому что польские пять копеек такая же простыня, как и пятьсот рублей, чем грамотно оперируют аборигены в отношениях с туристами. Пока Саша отсчитывает надобную сумму из охапки злотых, «пани рыбка» превращается в огромную толпу, лезущую в сумку руками с всхлипами «рыбка, мяска, кава». Перед моим носом крутят уже несколько банок, извлеченных из моей же сумки под крик «пани, пять тысченцев!».
Я жестко отнимаю консервы, трепетно собираемые целый год до поездки из писательских заказов, отпихиваю от своего лица лохматые тысченцы, на поверку оказывающиеся никакими не тысченцами. Мы отгоняем толпу на пару шагов, дети с грозными лицами становятся в караул с двух сторон сумки, в которую лезут руки в перчатках и без перчаток, Саша превращается в банк, принимающий деньги, а я, аукционным жестом вынимая очередную тушенку из сумки, предлагаю ее домогающейся публике.
Однако поляки люди твердые и артистичные, они быстро соображают, что мы не имеем ни малейшего представления о ценах, и как только я называю сумму, вполовину приближающуюся к реальной, начинают зевать и улыбаться. Сумка, наконец, пустеет, но тут я обнаруживаю страстное шаренье по собственному бедру и натыкаюсь на ледяную голубоглазую физиономию, интересующуюся вовсе не моим бедром, а моим карманом. Я автоматически бью по руке обидчика, но он не бросается наутек, а обращается ко мне с польским текстом, из которого я понимаю только слова «морда, курва и пся крев». Он пристраивается к толпе, угрожающе поглядывая на меня и перекидываясь фразами с коллегами. «Панирыбка» виснет на мне и жарко шепчет: «Пани така хороша, так дешево продает. Пани и пан должны скорей уходить. Пани и пан могут бить».
Сопоставив совет с группирующейся вокруг голубоглазого кодлой и суперменскими комплексами мужа, результатами которых может стать ночевка в полиции, я уговариваю своих сдвинуться из центра рынка к его освещенному выходу. Толпа покупателей и глазетелей сопровождает нас, продолжая орать «мяска, рыбка, кава». Веселый еврей, почему-то настаивающий на том, что он француз, доводит нас до исступления.
— Продайте часики за рубли! — канючит он, увидев на нас часы. — Мне очень нужны такие часики!
— Ну, подумайте, зачем нам рубли, мы едем в Англию!
— А мне они зачем? Продайте часики за рубли! Мне очень нужны такие часики!