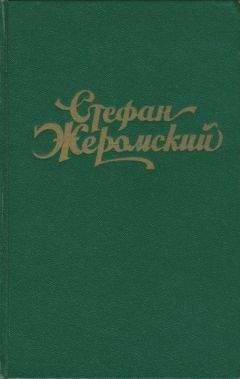Олег Суворинов - Петербург-Ад-Петербург
— Да-а-а, — протянул Иван Тимофеевич, — неприятная ситуация. Ну, а ты, Дима, говорил потом со своим директором, как он мог так поступить?
— Говорил, и даже чуть серьёзный конфликт не вышел. Он сразу охрану позвал и с тех пор мне больше не давали аудиенцию. И этот иезуит сейчас, воспользовавшись чужими идеями, денежки загребает, сволочь он последняя!
— Не переживай ты так. Всё наладится, найдёшь ты новую работу, — успокаивал я не в меру расходившегося Родина.
— Да как же не переживать? Этот подонок отнял у меня все! — Он кричал, отчего его разбитое лицо становилось страшным.
— А ты в институт не пробовал устроиться? — советовал Иван Тимофеевич.
— Ха-ха, конечно пробовал. Мне там говорят: «Молодой человек, у начинающих преподавателей, которые семинары проводят, зарплаты четыре тысячи рублей». А я говорю ей: «Женщина, как вы думаете, а те, которые нашими судьбами, как перчатками, разбрасываются, сами пробовали прожить на четыре тысячи в месяц, да ещё и семью прокормить?» Она только плечами пожала и более ничего…
— Дима, а если ещё работу поискать? Может, в столицу уехать?
— Да не могу я никуда ехать! Мне семейные обстоятельства не позволяют. Не хочу я об этом говорить. — Родин закрыл рот рукой и задумался.
— Не расстраивайся, Дима, — успокаивал его старик, — давай лучше дальше рассказывай.
— Хорошо. Рассказал я ей все это: про работу, про деньги и пр. И в свою очередь у нее начал интересоваться о ее жизни: кем она работает, чем занимается? Она отвечает: «Я, милый мой, уже давно не работаю. Мой отец уже пожилой, богатый и очень уважаемый человек, обеспечил мне безбедное существование до конца дней. Я не замужем, детей у меня нет. У меня был мальчик, но… случилось несчастье». Я тогда не стал спрашивать, что за несчастье. Позже, естественно, она рассказала о случае с собакой, которая загрызла ее сына. Затем я рассказал ей, что в отличие от ее отца — мой совершенно не участвовал в моей жизни, а про материальную помощь я вообще молчу. Хотя денег у него куры не клюют. Он чиновник небольшой в N-кой областной администрации. Взяточник, одним словом. Я не хочу о нем говорить. Затем она интересовалась моим семейным положением…
— Кстати, а ты женат? — перебил я.
— Был, но…, — он не договорил и перевел тему. — Если она не работает, то чем же она занимается, думал я в тот момент. «А может, ты филантропка?» — спросил тогда я и толкнул целую речь в защиту бедных.
Она внимательно выслушала меня и сказала: «У меня есть одно дело… Оно, конечно, не так благородно в отличие от тех, которые ты только что описал, но… У меня небольшой фонд и что-то вроде маленького издательства в Москве. Всё это сделано в помощь начинающим писателям». Услышав это, я был сильно удивлен. Заметил ей, что считаю литературу важнейшим из искусств. После чего неудачно процитировал Горького: «Книга — такое же явление жизни, как человек, она — тоже факт живой, говорящий…» На этом я запнулся и почувствовал себя неловко, но она лихо дополнила меня: «…и она менее «вещь», чем все другие вещи, созданные и создаваемые человеком».
— Ты на самом деле считаешь литературу важнейшим из искусств? — спросил я.
— Литература и книги — это вообще наше всё! Живопись, музыка — это тоже, несомненно, важные искусства, но литература превыше всего! В книге вся мудрость человечества, накопленная годами. Писатель лишь тот человек, который способен эту мудрость собрать и в доступной для читателя форме изложить на бумаге. Писатель придаёт законченную форму всей нашей жизни, не забывая, конечно, и о духовной её стороне, ну как Достоевский, например. Как он в своих произведениях раскладывает душу человека по полочкам, давая всему происходящему внутри точнейшее описание. Вот что я ценю в литературе. Помнишь, я говорил о том, что писал рассказы?
— Да.
— Ну, это не важно, — перевел тему Родин. — Кстати, я Аде тоже тогда проговорился, что пробовал писать.
— И как она отреагировала.
— Она спросила, получилось ли у меня задуманное.
— А ты?
— Что я? Я сказал правду о том, что написал пару маленьких рассказов. После чего сказал, что таланта к этому у меня нет.
— И как она отреагировала? — спросил я.
— Она сказала приблизительно так: «С чего же ты это взял? Я знаю точно, что себя самого адекватно оценить нельзя. Ты давал кому-нибудь читать?» Я сказал, что не давал. Потом она начала интересоваться, о чем бы я хотел написать книгу.
— И что же ты сказал? — спросил доселе молчавший Иван Тимофеевич.
— Я сказал, что если бы я писал о проблемах, не зависящих от времени, меня бы стали читать.
— А что ты подразумеваешь под этими проблемами? — спросил я.
Родин улыбнулся:
— Слушай, она тоже самое спросила. Только немного точнее. Она подняла свои брови и живо как-то сказала: «Ты хотел бы писать о религиозных вопросах? Может, о добре и зле или принялся бы ставить философские вопросы, которые у иных читателей сон вызывают?»
«Странно, — подумалось мне, — опять религиозный вопрос. Точно так же, как со мною в поезде». С этого самого момента страх начал селиться в мою душу.
Родин продолжал:
— А я ей говорю: «А чем вопрос веры не интересен читателю? Этот вопрос, по-моему, не зависит от времени. И многие в наш век очень даже интересуются этим вопросом. Книги на эти темы читают. Людям всегда это было интересно». Тут она разошлась не на шутку: «А чем же этот твой пресловутый религиозный вопрос, — говорит она, — так интересен современному читателю? Все писатели, философы, да и все люди до сих пор не знают точно ничего. Ничего ровным счётом — это жвачка, бесплодное умствование. Кто-нибудь из людей, когда-либо живших на земле, точно знал о существовании Бога? Нет! Это демагогия. Люди своим жалким умишком никогда не смогут этого узнать! Они смогли придумать лишь массу пустых учений и ни на чём не основанных религиозно-философских теорий, не дающих ни одного утвердительного ответа! Людям нравится философствовать, рассуждать о Боге… А что толку от этих философствований? Так зачем же голову всем морочить? Да и что такое, вообще, религия?»
— Что же, безбожниками всем стать? Как жить без веры? — возмутился Иван Тимофеевич. — Твоя Ада совершенно не права.
— Мне, честно говоря, плевать на ее мнение, — ответил Родин.
— А дальше что? — Мне не терпелось услышать продолжение.
— Дальше она попыталась убедить меня в том, что стоит все же попробовать написать что-нибудь.
Мне вспомнились слова Константина Константиновича, когда он говорил о своей сестре: «От кроткой женщины она превратилась в распутную стерву, которая совращает молодых людей примерно твоего возраста, но не старше тридцати лет. Самой ей уже пятьдесят один год. Мне иногда кажется, что она помешалась». Сомнений в моей голове больше не было. Кто-то лгал. Или Родин нам лгал, зная о брате Ады, или Ада просто не сообщила Родину, что имеет брата. Предложение же Ады, которое она сделала Родину казалось мне фикцией, прикрытием для того только, чтобы затащить Дмитрия в постель.
— Короче говоря, — продолжил Родин, — после недолгих уговоров, я принял предложение, солгав при этом, что будто бы знаю, о чем буду писать и пр. Дальше все происходило как во сне. Ада из своей сумочки достала пачку банкнот, перетянутых резинкой, которые я охотно принял, ввиду тяжелого финансового положения. Ада была счастлива. Через некоторое время она села ближе ко мне, чем немного меня смутила. Но смущение мое улетучилось в тот момент, когда наши губы встретились. Ее поцелуи невозможно забыть. Сложно сказать, сколько мы целовали друг друга, смущая, наверное, всех, кто находился рядом. Но нам на это было наплевать. Часу во втором ночи мы уже стояли у входа в гостиничный номер. Ну а потом… Короче говоря, с тех пор мы вместе.
— А что с книгой? — спросил Иван Тимофеевич.
— Я предпринял несколько попыток что-либо написать но, ничего не выходило…
— А как же аванс?
— А нет больше аванса, — осклабился Родин.
5
Я был шокирован. Подобное совпадение просто невозможно. Ада, — я был в этом уверен, была сестрой этого странного и страшного Константина Константиновича. Мысли свои об этом я, естественно, оставил при себе.
Воцарилось невыносимое молчание. Прямо над диваном, на котором сидел я и Иван Тимофеевич, висели старинные часы с большим медным или бронзовым маятником, которые мерно отстукивали секунды, уходившие от нас в безвозвратное прошлое. Часы были так стары, что на маятнике уже проступили зеленовато-жёлто-коричневыми пятнами, — следы ржавеющего металла. Раньше мне не приходилось замечать стука этих часов, но в эту минуту молчания он был похож на звук, обычно раздающийся из кузницы, где кузнец выковывает очередную металлическую вещь.
За окном же дождь к этому времени лил не просто как из ведра, а стоял непроглядной стеной.
Ветер срывал большие ветки деревьев, которые с сильным хрустом, ломаясь, падали во двор, усыпали детскую площадку и палисадники возле подъездов, где уже давно отцвели летние цветы. Словом, природа бушевала неистовым ураганом, похожим на тот, что бушевал у меня в душе, вырываясь через грудь беззвучным громом, слышимым лишь мне одному. В голове, словно пчелиный рой, хаотично летали мысли, разрывая мою голову на части. «Ужасный день, — думал я, — как же так, чёрт возьми, в один день столько всего может произойти с одним человеком: и этот психопат Жабин, и это нелепейшее признание в любви, и драка в Богом забытой забегаловке?..»