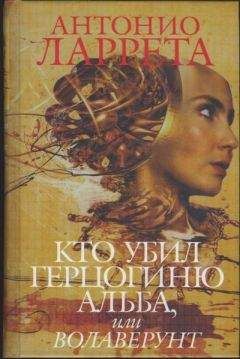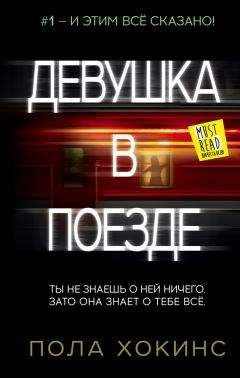Антонио Ларетта - Кто убил герцогиню Альба, или Волаверунт
(Спустя столько лет я объясняю Гойе, что в этом не было ничего странного. Да, помощь Майте оказал мой шурин. Они с детства были очень близки, и, думаю, нет ничего необычного в том, что когда ее отношения со мной стали такими, какими они тогда уже были – натянутыми и холодными, – она искала поддержки именно у кардинала. Но я, конечно же, помог бы Майте, потому что никогда не переставал быть заботливым мужем, кардинал просто опередил меня. Гойя снова начинает извиняться, говорит, что надоел мне, что рассказывает мне как нечто новое историю, в которой я участвовал, как и он, и видел все своими глазами точно так же, как он. Я с ним не соглашаюсь: совсем не «так же, как он», никогда два человека не воспринимают совершенно одинаково одно и то же событие. Например, выходка Каэтаны в мастерской показалась мне не более чем забавной шуткой, да и реакция самого Гойи была, с моей точки зрения, совершенно естественной, и вообще я не заметил в этом происшествии чего-то особенного. И еще одно: на следующий день, когда я узнал, что Каэтана умирает от необычной болезни, которую медики не могут даже определить, у меня в голове не мелькнуло никакой мысли о ядах.)
Такой же праздничной процессией мы возвращались назад, проходя через салон и галереи, но у меня больше не было желания любоваться эффектной игрой света, а когда спустились по широкой лестнице на первый этаж, трио музыкантов уже играло в салоне, и все уселись слушать их. Я предпочел остаться на ногах, поближе к музыкантам – они слишком тихо для моего слуха исполняли чье-то адажио. Поискал глазами имя композитора на партитуре виолончелиста: Гайдн. Она осталась верна музыкальным вкусам покойного герцога.[84] Вслед за адажио прозвучало короткое рондо. Трио наградили аплодисментами. Я обернулся и увидел мелькнувшую в дверях огненную накидку Каэтаны: воспользовавшись перерывом, она выходила из салона. Я решил пойти за ней, высказать ей свои упреки за сцену в мастерской и – главное – просить прощения за мою резкость. Но она шагала слишком быстро. Я только подошел к лестнице, а она уже выходила с нее на втором этаже, я вступил в зеркальный зал, а она в другом его конце уже открывала двери, ведущие в ее апартаменты. Дразнящий огонек ее накидки мелькал все время далеко впереди. Мне так и не удалось догнать ее. Когда я поравнялся с моей мастерской, из нее вышли ваша супруга и ваш кузен в сопровождении слуги со светильником в руках. «Спасибо за гостеприимство, Франсиско, – обратился ко мне кардинал. – Подумай, когда сможешь приехать навестить нас в Толедо. Может быть, найдешь время и напишешь нам два новых портрета.[85] И не играй с ядами». Майте, словно испуганная девочка, вцепилась в руку кардинала, ее тело стало клониться назад, она снова была на краю обморока, но, собравшись с силами, смогла прошептать: «Прощай, Франсиско, приезжай навестить нас». Они принадлежали к тому небольшому кругу людей в Мадриде, которые называли меня Франсиско: не Фанчо, не Пако, не Гойя – Франсиско. Так они привыкли называть меня с детства, когда я писал их в первый раз, еще вместе с родителями, и так они продолжали обращаться ко мне и потом. Я всегда их любил, и они всегда прекрасно относились ко мне. Я смотрел, как они короткими шагами шли через зеркальный зал, он держал ее под руку, она прижималась к нему, и вспоминал, что так они ходили всегда – он укорачивал шаг, чтобы идти с ней в ногу; такими я видел их еще в Аренас-де-Сан-Педро, когда они, взявшись за руки, шли в сад ловить бабочек или возвращались после молитвы; помню, как она уходила спать, а инфант дон Луис провожал ее нежным взглядом. Они уже спустились по лестнице, а я все стоял в нерешительности. Каэтана закрыла дверь в свои комнаты, и я не осмеливался постучаться. В конце концов я вернулся в мастерскую и решил заняться работой.
Я пробыл там, должно быть, около часа, приводя в порядок наброски, которые перебирали и передавали из рук в руки гости, и попробовал нарисовать новое «капричо», на котором маха – она – разговаривала со старым аптекарем, – чудовищно деформированный образ меня самого, каким я только что видел свое отражение в зеркалах зала, – и на ее лице была растерянность: она не могла выбрать ни одну из банок, предложенных аптекарем. Я собирался назвать капричо «Что будет надежнее?» – достаточно двусмысленно: хотя поза молодой женщины и масленые глазки старика больше говорили о любовных снадобьях, маха на самом деле искала не что иное, как надежную смерть. В общем, то капричо было просто мимолетным капризом, и через мгновение разорванная на мелкие клочки бумага отправилась в корзину. Я услышал, как у Иеронима пробило два часа, пора было уходить; минутой раньше я видел в окне отъезжающую карету, гости уже начинали отбывать. Я погасил светильники и вышел. Погруженный в темноту зеркальный зал производил гнетущее впечатление, я постарался как можно скорее пройти сквозь его гулкую пустоту и пересечь восьмигранный салон и вздохнул с облегчением, лишь выйдя в галерею, куда в открытое окно вместе со свежим воздухом вливались отзвуки и отблески ночной жизни вечно бурлящего Мадрида.
Сеньора герцогиня, ваша супруга, по-видимому так и не оправившись полностью после обморока, вынуждена была покинуть дворец. На этот раз ее сопровождали вы. По крайней мере так сообщил мне торопливым шепотом Пиньятелли, явно злорадствовавший по поводу того, что кардинал и Пепита должны будут теперь уехать вместе.
Глядя издалека на Каэтану, я строил предположения, о чем она говорит; Майкес перебирал струны гитары, Рита пела свои всегдашние куплеты, а Каэтана вела оживленный разговор с Костильяресом, она сидела на низенькой скамейке спиной ко мне, положив руку на его колено. И вдруг, воспользовавшись минутным затишьем после аплодисментов, взметнулась, будто колеблемое ветром пламя, и, выхватив гитару из рук Майкеса, запела сама. Теперь я видел ее лицо, она была не похожа на себя: лихорадочный блеск глаз, экстатическая поза, какая-то темная страсть, с которой она пела любовные песни, чередуя их с песнями о смерти, – все это сразу же зародило во мне подозрение, что хотя я и помешал ей вдохнуть зеленую веронскую – кстати, вся эта сцена в конце концов могла быть лишь специально разыгранным фарсом, – она тем не менее добилась своего, утешившись белым андским порошком. Надышавшись им, она всегда преисполнялась какой-то неестественной болезненной энергией; мы, кто хорошо ее знал, сразу же замечали, когда она впадала в это состояние: исчезали прирожденное изящество и грация, пропадала ее несравненная непринужденность, она становилась сухой и колючей, полностью утрачивала свою обычную сердечность. Между тем голос ее звучал все более напряженно, а глаза наполнились слезами, и я с тревогой наблюдал, как черная краска, которой я накрасил ей ресницы, спускается потеками по ее щекам; она, видно, и сама заметила это, потому что, резко оборвав последние такты и договорив скороговоркой слова песни, Еернула гитару Майкесу и вышла из комнаты. Однако уже через минуту, приведя себя немного в порядок, вернулась обратно, села отдельно от всех и с бокалом в руках, который то и дело меняла на новый, напряженная и готовая к прыжку, как пантера, стала со странной недоброжелательностью слушать обожаемую кузину Мануэлиту, болтавшую о своем свадебном наряде, о том, когда будет свадьба и куда они отправятся в свадебное путешествие. Она действительно обожала Мануэлиту, но демоны уже овладели ею, и в следующий момент она с кошачьей гибкостью вмешалась в общий разговор: «Ах, душенька, нам уже прискучили твои невестинские россказни, – вкрадчиво проговорила она, – наш вечер стал похож на посиделки у доньи Тадеа.[86] Слишком здесь тихо. Составим-ка лучше заговор! Ты не против, Фернандо? Или совершим преступление, вдохновленное страстью, хотя бы только воображаемой, да, Исидоро? Или, по крайней мере, устроим пожар. Где твои поджигатели, Костильярес? Они мне простят дворец, если я их найму оживлять мои праздники?» Вдруг в ее глазах сверкнула молния. Меня охватило беспокойство. Ведь это могло означать что угодно. «Хотя зачем они нам нужны?» – голос ее дрожал от напряжения. Она подбежала к одному из канделябров, освещавших комнату, выхватила из него свечу, остановилась перед нами – Пиньятелли, Костильяресом и мной, кто знали ее слишком хорошо и уже приготовились вмешаться, – и воскликнула: «Мне достаточно одной этой свечи, чтобы самой поджечь дом!» С этими словами она бросилась к шторам, а мы – к ней, она с криком и смехом отбивалась от нас, а мы тоже смеялись, чтобы разрядить неприятную ситуацию, и наконец Костильяресу удалось схватить ее сзади за локти и оттащить от шторы, Пиньятелли сумел завладеть свечой, а я поливал водой из цветочной вазы огненный фестон, уже окаймлявший расшитые золотом шторы… Осуна успела подбежать к кардиналу и красноречивым жестом умоляла его вмешаться; Майкес с явной насмешкой взял на гитаре несколько трагических аккордов, как бы комментируя гротескную драму, развертывающуюся у него на глазах; Корнель, уже изрядно пьяный, как я полагаю, продолжал дремать, зарывшись в диванные подушки; лицо принца Фернандо не утратило своего дурацкого веселого выражения; Мануэлита обняла своего обрученного; а я с глупым видом стоял среди них с вазой в одной руке и розами в другой.[87]