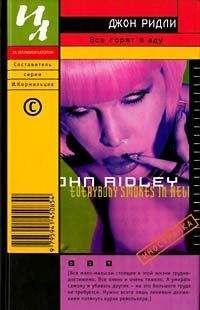Джон Чивер - Буллет-Парк
— Ставлю стаканчик виски тому, кто возьмется определить породу моего песика,— говорил тот, что потчевал собаку картофелем. И, так как никто не принял вызова, сам ответил на свой вопрос.— Так вот, собачка моя наполовину ищейка, наполовину — ирландский сеттер,— объявил он.
Нейлз спросил мартини, сразу этим показав, что не принадлежит к обычному кругу здешних завсегдатаев.
— Вот была у меня одна,— начал третий участник квартета. — Только и знала, что говорить «хэлло!». Ну скажите на милость, приходилось вам когда-нибудь иметь дело с такой девчонкой?
Не получив ответа на этот риторический вопрос, он продолжал:
— Ну все время говорит «хэлло», да и только! Я обычно приезжал по четвергам после ужина. Ее муж ходил играть в шары по четвергам. Она, бывало, выйдет ко мне в купальном халатике или еще в чем, поцелует меня крепко-крепко и заводит свое «хэлло». Я раздеваюсь, она меня целует в плечо, в ухо, куда ни попало, и все приговаривает «хэлло, хэлло, хэлло». И так все время, что мы с ней милуемся. А как дойдет до дела, она снова — «хэлло, хэлло», только все громче и громче. И наконец уже кричит: «Хэлло, хэлло!» А потом даст мне сигарету, сама спичку поднесет, нальет виски — этого она никогда не забывала — и снова всего меня обцеловывает и приговаривает: «Хэлло, хэлло». Потом я оденусь, поцелую ее на прощанье, а она опять за свое: «Хэлло». Может, она и говорила что другое, ну, конечно же, говорила, но я, хоть убей, ничего не запомнил, кроме «хэлло».
— Да, чего только они не говорят — иной раз и повторить не захочешь,— вступил четвертый.— Вот хотя бы моя жена — такая скромница во всем, а как в постель ляжет, прямо нет такого слова, какого бы она не сказала. Хуже шлюхи. Я и то стал задумываться — где она могла услышать эти слова? То есть я-то знал, что не от меня. Я даже начал ревновать, потому я очень ревнивый по натуре. Она у меня была очень красивая и любила этим заниматься, а надуть меня проще простого — было бы желание! Я ведь как уйду в семь утра на работу, так до половины седьмого вечера не бываю дома. И всякий раз, когда мне отказ, я соображаю, что у нее, значит, в другом месте пожива. Я ужас как мучался ревностью. Конечно, сыщика я нанимать не стал или там следить за ней и всякое такое прочее, но, сами понимаете, хотелось знать наверное. И вот я что придумал. Эта ее штуковина, понимаете? Воспользовалась она ею или нет. Если да,— значит, рассчитывает на дело. У нас в ванной аптечка такая висит, и она ее обычно там держит, так что я всегда знал, где что. Ну вот, прихожу я однажды вечером домой, иду мыться, заглядываю в аптечку — нет, Ага, думаю, попалась! Спускаюсь вниз, на кухню, спрашиваю: ну, как ты провела день? А сам злой как черт. Да ничего, говорит, ходила по магазинам. Купить, говорит, ничего не купила, просто смотрела платья разные. Платья, говорю, смотрела? А может, еще что? Она себе хлопочет у плиты как ни в чем не бывало, а я ее и спросил: где штуковина? Зачем это она ей понадобилась — платья смотреть, что ли? Стал я на нее кричать, обзывать ее по-всякому, а она в слезы и говорит, что у нас, мол, с ней утром дело было. Ну что тут скажешь? Я ведь не помнил, этим ли утром было или вчера? Что ж, пришлось извиниться, она платочком слезы смахнула, и мы сели ужинать, но она меня к себе так и не подпустила. Я снова терзаться. Подозрения, ревность там и все такое. Через неделю она надумала проведать сестру в Детройте. А сестра у нее отчаянная — совсем совесть потеряла. Я отвез ее в аэропорт, поцеловались мы на прощание, приезжаю домой и первым делом к аптечке. Все на месте. Ну вот, встречаю я ее потом, едем домой, все хорошо, стал на ночь зубы чистить, открываю аптечку, гляжу — а их две. Ага, думаю, одну, значит, оставила дома, для отвода глаз, а сама купила себе другую в Детройте. Взял и спросил ее, зачем она в Детройте еще одну штуковину купила. Она опять в слезы и говорит, что купила вторую сегодня вечером, потому первая, мол, уже не годится. Где, спрашиваю, купила — в нашей аптеке? Ну да, говорит. Хорошо, говорю, я доберусь до правды, и давай звонить в аптеку. Спрашиваю, покупала ли она у них эту штуку сегодня вечером? Они отвечают, что на этот товар у них учета не ведется и что продавец, который торговал вечером, ушел домой. Давайте, говорю, телефон вашего продавца. Звоню ему домой; он говорит, что не помнит, покупателей было много, где ему их всех упомнить. А она, конечно, ревмя ревет, и я, понятное дело, не то чтобы очень уж шикарно себя чувствую, но все-таки хочется мне дознаться до конца. Примерно так через недельку встаю я утром, а она еще спит, одеваюсь и вдруг — пуговица на пиджаке оборвалась. Я снимаю пиджак, открываю коробку, где у нее нитки хранятся, глядь — опять эта штуковина! Несу ее в спальню, показываю жене и спрашиваю, сколько у нее их, черт возьми, штук этих? Она только натянула одеяло на голову, молчит. Так я и пошел с оторванной пуговицей. А потом выпустили в продажу эти чертовы пилюли. Так что я уже и вовсе ничего не знал.
Нейлз выпил еще один мартини и поехал домой. Разговор в баре не столько его позабавил, сколько расстроил. А что же, интересно, тот человек, который увлекался игрой в шары по четвергам? Знал ли он, задумывался ли о том, как его жена проводит эти вечера без него? Сам Нейлз был неисправимый однолюб, и мысль о супружеских изменах не укладывалась у него в голове. Он влюбился в Нэлли с первого взгляда, и брак для него был не просто одной из сторон жизни,— он был самой жизнью. Нейлз вспомнил, как в прошлую субботу под вечер Нэлли уснула у него на руках. И как он охмелел, словно от крепчайшего напитка, при мысли об их нераздельности, о том, что они составляют одно целое — на горе, на радость. Она дышала немного тяжело, с присвистом, а он чувствовал, как мир и покой разливаются по всему его телу. Она была его младенцем, его богиней, матерью его единственного сына. «Я храпела?»— спросила она, проснувшись. «Ужасно,— ответил он, — как механическая пила».— «Мне так сладко спалось»,— сказала она. «А мне так сладко было держать тебя,— сказал он,— так хорошо...»
Вернувшись домой, он налил себе и Нэлли виски с содовой и, поднявшись в ванную вымыть лицо, открыл аптечку — с тем же гнусным и непристойным намерением, что и рассказчик в баре. Затем спустился к Нэлли и спросил, как она провела день.
— Я шаталась по магазинам. — сказала она.— Ничего не купила, просто смотрела платья. Так и не выбрала ни одного — то крой не нравится, то цвет.
— Выйди ко мне в гостиную на минутку,— сказал Нейлз. — Я хочу спросить тебя кое о чем.
Она прошла за Элиотом в гостиную, и он закрыл обе двери, чтобы Тони не мог услышать их разговор.
* * *Нэлли была безусловно привлекательная женщина, а так как в кругу, к которому она принадлежала, нравственные устои носят сугубо эмпирический характер, в охотниках добиться ее благосклонности не было недостатка. Так, однажды в субботний вечер миссис Фэллоуз представила ей в клубе своего хорошего знакомого, мистера Бэлларда, который у них в то время гостил. Он пригласил ее на танец. Как только его рука прикоснулась к Нэлли, ее словно током ударило. Такой яркой и мгновенной вспышки страсти Элиот не вызвал у нее ни разу. Партнер ее — Нэлли это чувствовала — был взволнован не менее ее самой. Ноги их машинально передвигались по паркету. Если бы он пригласил Нэлли выйти и посидеть с ним в машине, она бы не отказалась — да и зачем бы ей отказываться? В жизни ей не доводилось испытывать такого могучего влечения. Оба были необычайно бледны, ни он, ни она не проронили ни слова. Впрочем, им и не нужно было слов. Мистер Бэллард подал ей руку, и они вместе вышли из зала. Но в эту же минуту кто-то крикнул: «Пожар!» Комната наполнилась дымом, все бросились вон из буфета и затолкали влюбленных. И тотчас же откуда-то появился Нейлз с огнетушителем и ринулся в наполненный дымом зал. Оркестр продолжал играть, но танцоры толпились в дверях. Задыхаясь от дыма и кашля, буфетчики принялись выносить бутылки в коридор — по две в каждой руке. Глаза у них слезились. Через несколько минут приехала пожарная команда. По алому ковру протащили шланг, но с огнем уже справились, так что не было необходимости заливать помещение водой. Когда Нейлз, с ног до головы покрытый сажей, выбрался наконец из обугленной комнаты, Нэлли так к нему и бросилась. «Милый мой, милый, — твердила она.— Как я боялась за тебя». Они поехали домой, и Нэлли больше никогда не видела Бэлларда и никогда о нем не вспоминала.
Другой случай. Среди местных ловеласов был некий человек по имени Питер Спрэт, которого все почему-то звали Джеком. Жена его безостановочно пила, и в Буллет-Парке вечно дебатировался вопрос о причинах и следствиях, то есть являлись ли любовные похождения Джека результатом алкоголизма его жены, или, напротив, жена его запила в результате его непрекращающихся измен. Часто на вечеринках Джек отводил Нэлли в сторону и жарко ей нашептывал, как прекрасно они могли бы провести время вдвоем. Нэлли этим ничуть не оскорблялась, а иной раз даже испытывала некоторое волнение, слушая его. Как-то в субботу он взял у Нейлза садовые ножницы. А в понедельник днем, часов в двенадцать, принес их обратно. Дверь открыла Нэлли. Он вошел в переднюю, положил ножницы на стул и, одарив ее влюбленным взглядом, от которого у нее закружилась голова, произнес: