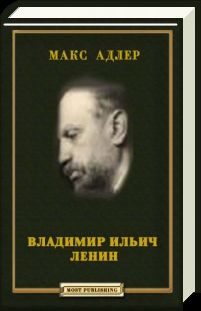Джон Чивер - Буллет-Парк

Обзор книги Джон Чивер - Буллет-Парк
ДЖОН ЧИВЕР
Буллет-Парк
Часть первая
I
Пусть художник нарисует железнодорожный полустанок, готовый вот-вот погрузиться в вечерние сумерки. По ту сторону платформы, отражая тусклый свет угасающей зари, мерцает река Уэконсет. Унылое и вместе с тем слишком для здешних зим легкомысленное станционное здание не столько походит на вокзал, сколько на беседку, павильон или летнюю дачу. Вдоль платформы горят фонари — кажется, что они жалуются на жизнь. Как знать — быть может, все дело в обстановке? Когда нам нужно куда-нибудь добраться, мы обычно садимся в самолет. И тем не менее истинной хранительницей духа нашей страны все еще остается железная дорога. Вы просыпаетесь в три часа ночи в городе, название которого вы так никогда и не узнаете. В окно спального купе вы видите на платформе мужчину с мальчиком на плечах, оба машут кому-то рукой. Да, но отчего этот мальчик не спит в такой поздний час и отчего по щекам отца текут слезы? На запасном пути — освещенный вагон-ресторан, в нем маячит одинокая фигура официанта, склонившегося над счетами. Позади вагона высится водонапорная башня, а еще дальше — яркий свет фонарей освещает пустынную улицу. Вас охватывает радостное чувство родины, неповторимой, таинственной, необъятной. Подобное чувство не дано испытать ни в самолете, ни на аэродроме, ни в поезде, что мчит вас по железным путям на чужбине.
Итак, поезд останавливается, и на платформу выходит пассажир. Его встречает Хэзард, агент по недвижимому имуществу, ибо кому, как не ему, знать точный возраст, достоинства, недостатки и цену каждого дома в поселке? «Добро пожаловать в Буллет-Парк! Надеюсь, что вам у нас понравится и вы захотите здесь поселиться». Сам мистер Хэзард, впрочем, живет не здесь. Таблички с его именем прибиты к деревьям на свободных участках Буллет-Парка, в то время как собственный его дом находится в соседнем поселке. Вновь прибывший оставил жену в Нью-Йорке у телевизора в номере гостиницы «Плаза». Он ощущает себя немного пещерным человеком, отправившимся на поиски жилья. Нынче все дорого, да и все равно того, что тебе по душе, не найти. Облупившаяся краска на стенах, мебель, брошенная прежними жильцами, — от всего этого веет тем щемящим духом прожитой жизни, что так хватает за сердце, когда разбираешь тряпье и бумаги недавно умерших. Он, конечно, ищет тот самый дом, который — по крайней мере дважды — привиделся ему во сне. Впоследствии, когда он уже устроится на новом месте, когда разобьет клумбы в саду и расставит мебель в комнатах, все муки переезда будут позади; но в этот вечер в его крови еще бушует память странствий и переселений рода. Жителям Буллет-Парка хотелось бы убедить себя и других в том, что они старожилы, что они здесь и родились и выросли. Но это, конечно, не так. Хаос и беспорядок новоселья, мебельные фургоны, банковые займы под большие проценты, слезы и отчаяние — вот почти непременные спутники всех их переездов.
— Здесь у нас торговый центр, — говорит Хэзард. — Мы планируем со временем его усовершенствовать. А вон там, — и мистер Хэзард кивает в сторону освещенного холма, — Пороховая гора; на ней как раз и находится домик, который я для вас присмотрел. За него просят пятьдесят семь тысяч. Пять спален, три ванных…
Вдоль склона Пороховой горы поблескивают фонари, из труб поднимается в небо дымок, а на веревке развевается розовый плюшевый чехол для стульчака. Если бы исполненный праведного гнева подросток ухитрился издали, со своего гольфового поля, разглядеть эту розовую тряпку, он не преминул бы назвать ее символом Пороховой горы, ее почетной грамотой, знаменем, за которым в своих остроносых английских туфлях выступает легион духовных банкротов, отбивающих друг у друга жен, травящих евреев и ведущих ежечасную и бесплодную борьбу с собственным алкоголизмом. К черту, бормочет подросток, к черту их всех! К черту яркие лампы, при которых никто не читает книг, нескончаемую музыку, которую никто не слушает, рояли, на которых никто не умеет играть! К черту их белые домики, что заложены и перезаложены от подвала до чердака! К черту этих хищников, что скармливают всю океанскую рыбу норке затем лишь, чтобы нацепить ее мех своим женам на шею! К черту их пустующие полки для книг, на которых покоится один лишь телефонный справочник, переплетенный в розовую парчу! К черту их лицемерие, ханжество, безукоризненное белье, похоть и кредитные карточки! Да будут они прокляты за то, что сбросили со счетов безбрежность человеческого духа, выщелочили все краски, запахи, все неистовство жизни! К черту, к черту, к черту!
Наш подросток, как все подростки, был бы, разумеется, неправ. Взять, к примеру, Виквайров, мимо белого домика которых (65 тысяч долларов) только что проехал Хэзард со своим клиентом. Подростку, который захотел бы взять на прицел нравы и обычаи Пороховой горы, не найти лучшей мишени, чем эта пара. Обаятельные, остроумные, блестящие, они являются душою общества, и все их дни расписаны — со Дня труда в начале сентября и по День независимости четвертого июля. Настоящие общественные деятели, мученики светского ритуала, они отдают все свое обаяние, весь блеск вечеринкам, коктейлям и званым обедам. Они понимают, что для процветания общества коктейли и банкеты, юбилеи и даты столь же необходимы, как заседания поселковой элиты, школьные комитеты, четкая работа водопровода, канализации, освещения и прочих муниципальных служб. Беззаветные жрецы светских обрядов в обществе, насчитывающем так мало алтарей (в Буллет-Парке четыре церкви), — причем ни один из них не почитается жертвенным, — они воздвигли торжественный алтарь, на который постоянно возлагают (и отнюдь не в переносном смысле этого слова) частицу своей живой плоти, алтарь, который орошают собственной кровью. Они вечно падают с лестниц, постоянно спотыкаются о мебель и без конца загоняют свою машину в кювет. Вот они появились на званом вечере: оба безукоризненно одеты, но только у нее рука на перевязи, а он в темных очках и опирается на палку с золотым набалдашником. Оказывается, миссис Виквайр растянула руку, а ее муж еще зимой сломал ногу; темные очки тоже неспроста — они прикрывают здоровенный фонарь, переливающий алыми и лиловыми оттенками месяца, что в марте выглядывает из-за облака, словно нарочно, чтобы поддразнить влюбленного юнца. Увечья эти, впрочем, ничуть не умаляют их блеска. Забинтованная нога, рука в лубках, нашлепка на виске или под глазом являются непременным дополнением к наряду Виквайров.
К своим светским обязанностям они относятся торжественно, исполняя их с блеском и темпераментом. Достаточно взглянуть на них в какой-нибудь понедельник утром, после того как они весь уик-энд добросовестно обедали и ужинали в гостях, чтобы оценить всю самоотверженность их служения. Они еще спят; но вот зазвонил будильник; спросонья мистер Виквайр хватается за телефонную трубку: дети ведь учатся в другом городе — вдруг кто-нибудь заболел или попал в беду! Но нет, это всего-навсего будильник. Мистер Виквайр спускает ноги на пол. Стонет. Чертыхается. Встал. Внутри у него пусто, словно его выпотрошили; вместе с тем он еще не забыл ощущений человека, у которого все внутренности на месте. А вот проснулась и миссис Виквайр. С тихим хныканьем она зарывается головой в подушку. Мистер Виквайр несет свое пустое ноющее тело по коридору. Увидев в зеркале над раковиной собственное лицо, он вскрикивает от ужаса и отвращения: морщинистые щеки, воспаленные глаза, пегие, словно выкрашенные рукой неискусного парикмахера, слипшиеся волосы. Мистеру Виквайру на мгновение дано увидеть себя глазами постороннего. Затем, смочив щеки, он начинает бриться. Эта процедура окончательно истощает его энергию. «Поеду следующим поездом», — бормочет он, шлепает назад по коридору и, чтобы не видеть утреннего света, забирается под одеяло с головой. Миссис Виквайр тихо хнычет и, всхлипывая, поднимается с постели; задравшаяся сзади ночная сорочка обнажает роскошное тело. Она плетется по коридору и, поравнявшись с зеркалом, зажмуривается. Возвращается и вновь ложится в постель, уткнувшись лицом в подушку. Некоторое время мистер и миссис Виквайр лежат рядом и тихо стенают. Затем он переваливается на ее половину, и ровно двадцать минут они предаются каторжному труду любви, после чего у обоих наступает сокрушительный приступ мигрени. Он уже опоздал и на 8.11 и на 8.30. «Кофе», — лепечет он и, еще раз встав с постели, спускается на кухню. В дверях он внезапно вскрикивает: на полке возле раковины, суровые и величавые, как боги в некоем пантеоне Раскаяния, выстроились в ряд пустые бутылки.
Мистер Виквайр с трудом подавляет в себе желание пасть на колени и, воздев руки, обратиться к ним с молитвой. «Бутылки, о бутылки, пустые бутылки! — воззвал бы он к ним. — Всемилостивейшие бутылки, сжальтесь, о, сжальтесь надо мной во имя ваших создателей Сигрэма и Джека Дэниэлса!» Нерушимая их пустота придает им вид монументальный и строгий. Ярлычки — «Виски», «Джин», «Бурбон» — подчеркивают свирепость этих китайских божков. Нет, никакими молитвами и коленопреклонениями их не разжалобить. Быстро, одну за другой, Виквайр бросает их в корзину, но это не приносит ему облегчения: он по-прежнему чувствует себя в их власти. Он ставит чайник и ощупью, держась за стенку, как слепой, возвращается в спальню, откуда доносятся громкие стоны жены.