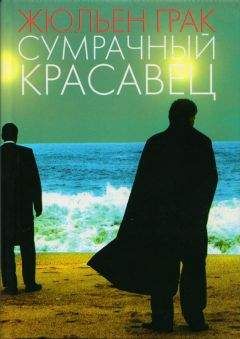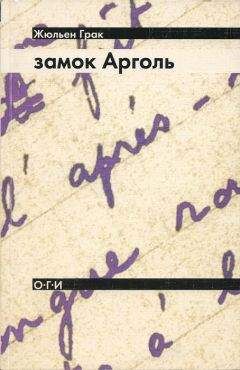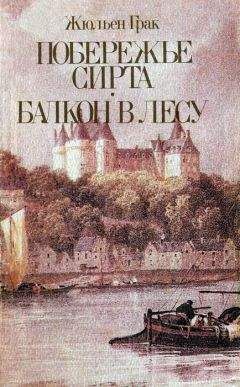Жюльен Грак - Побережье Сирта
Очень тяжелая и очень мрачная музыка, плохое освещение и дурманящие ароматы выбивали меня из колеи. Мне показалось, что я медленно прихожу в себя, словно после падения в открытый люк, и что мои органы чувств начинают функционировать не сразу, а один за другим: сначала меня куда-то влечет одна лишь нить колдовской мелодии, а потом я расширяюсь до предела, наполняясь будоражащими ароматами. Постепенно я привыкал к сумраку, и снова меня поразили и вольные позы, и жесты пар, привлеченных сюда, как можно было предположить, надеждой на относительное уединение. Утонченная, таящая в себе какой-то вызов атмосфера, скрытый чувственный магнетизм давали о себе знать то тут, то там, обнаруживали себя то в линии слишком покорно склоненного затылка, то в слишком тяжелом взгляде, то в набухшем глянце приоткрытого в полутьме рта. Повсюду пробуждались, намечались едва-едва заметные движения, некоторые из них обретали заметно более четкое выражение, чем другие, но при этом казалось, что идут они из глубины сна и напоминают жесты спящего. Однако посреди этого бодрствования морского грота я вдруг отчетливо, как дыхание на затылке, почувствовал некое присутствие, более тревожное и более близкое. Я быстро осмотрелся. У меня возникло такое ощущение, словно я ткнулся носом в закрытую дверь: рядом со мной, едва не касаясь меня, находилось обращенное в мою сторону молодое женское лицо. И по той откровенной, царственно равнодушной к скандалу жадности, с какой ее глаза овладели моими глазами, я понял, что отвернуться я уже не смогу.
В этих смотрящих на меня зрачках было нечто такое, что всплывает из самых потаенных, из самых ночных глубин. Эти глаза не моргали, не сверкали, даже не смотрели — их глянцевая влажность напоминала не взгляд, а скорее створку широко раскрытой в ночи ракушки, — они просто пребывали в открытом состоянии, держались на странной, белой лунной скале, обрамленной завитками из водорослей. Эти бездны спокойствия посреди похожих на полегшие хлеба разметанных во все стороны волос словно раскрывались навстречу звездному небу. Губы тоже жили, двигались и, как от нажатия пальцем, как бы втягиваясь вовнутрь — маленький, голый, шевелящийся, как медуза, кратер. Внезапно стало очень холодно. И вокруг этой головы медузы какими-то порывистыми движениями колыхалось нечто причудливое, словно кто-то перебирал одно за другим перепутанные кольца змеи. Голова покоилась в углублении плеча, скрытого темной тканью. Две руки служили ей пелериной, оцепеневшим и одновременно трепещущим от удовольствия ожерельем и черпали, как в наполненном корыте, в глубине своего корсажа. Все это под огромным давлением поднималось из глубин на поверхность, поднималось к своему собственному небу безмятежности, как полная луна сквозь листву.
И к каким бы крепким напиткам я ни прибегал, сколько бы ни отдавался на волю толпы, выносившей меня в самые оживленные точки праздника, оправлялся от потрясения я очень медленно. Словно ослепленные на мгновение слишком ярким солнцем, мои глаза никак не могли избавиться от черной точки, плавающей в искрящемся свете. Каким бы невероятным ни казалось на подобном вечере столь откровенное отправление интимной любовной литургии, шокированным я себя не чувствовал. Смотревшие на меня глаза не судили. Они свидетельствовали. Когда я пытался понять суть этого странного притяжения, вдруг привязавшего меня к ним, мне на память пришел один навязчивый образ, образ естественных, расположенных вровень с землей колодцев, в которых упавший камень не дает никакого звука. В этом тошнотворном вакууме, который не может насытиться, спотыкаешься, задерживаешься всего на одну секунду, а потом прежний путь оказывается заказанным. Глаза те двигались рядом со мной, слабый ветер их бездны задувал свечи; они мягко раскачивали праздник над пучиной кошмара.
Я праздно расхаживал между группами, размышляя о странных людях, собранных Ванессой в своем дворце, и вдруг мне показалось, что одно из тех лиц, которые я время от времени пытался узнать, мелькает в поле моего зрения чаще, чем остальные. Сухое, безбородое лицо, с глазами, как бы подернутыми пеленой, в которых, однако, притаился более выразительный и более острый, чем у других, взгляд, — лицо это было мне знакомо, и его настойчивое возвращение как бы постоянно напоминало мне о себе. Слегка заинтригованный, я на миг между двумя погружениями в текущую, кружащуюся толпу прислонился к стене и стал ждать нового его появления. Рядом со мной раздался отчетливый, хотя и намеренно тихий, бархатный голос, располагавший к жанру конфиденциальной беседы. Лицо было передо мной.
— Грандиозный праздник, не правда ли, господин Наблюдатель?.. Могу я сослаться на дружбу с вашим отцом, чтобы напомнить вам свое имя? — добавил он, без смущения читая на моем лице удивление и слегка улыбаясь. — Джулио Бельсенца… Я знал вас совсем юным… — В его голосе появились заговорщические модуляции. — …Не желая смешивать службу с удовольствиями, я все же подумал, что наши должности могли бы сегодня в какой-то мере сблизить нас с вами.
Я внезапно вспомнил его имя. В полученных мною накануне отъезда инструкциях о моем собеседнике говорилось как о тайном агенте Синьории в Маремме. Я ограничился минимумом любезностей, стараясь избегать профессиональной тематики. В его физиономии было нечто такое, что ассоциировалось с полицейскими сплетнями, слышать которые в салоне Ванессы мне не хотелось.
— …Да, — продолжал голос вроде бы без тени обиды, — надеюсь, вы извините меня за то, что я сказал себе: к черту приличия! Коль скоро у меня есть возможность поговорить с человеком, близко соприкасающимся с Канцелярией… Я пребываю здесь в полном одиночестве — мне не присылают ни указаний, ни информации.
Своим голосом он подчеркнул всю горечь этого небольшого отступления. Внезапно он посмотрел на меня с видом гурмана.
— …А тут еще какие-то слухи…
Примесь беспокойства в его неподвижном и жестком взгляде контрастировала с улыбкой. Мою рассеянность как рукой сняло.
— У меня информации, похоже, гораздо меньше, чем вы думаете…
— В Адмиралтействе ничего не известно? Тогда я спокоен.
Улыбка настойчиво иронизировала. Я почувствовал внезапное раздражение.
— Нет, должен вам признаться, что я не вижу… Я здесь вообще-то оказался случайно, — добавил я неприязненно, — и к тому же я не очень доверяю слухам.
— Да, но слишком уж много этих слухов, причем как раз в Маремме.
— По поводу Адмиралтейства?
— По поводу Фаргестана.
Голос его словно взвесил на долю секунды, почти осязаемо, это более тяжелое, чем остальные, слово. Я почувствовал, как у меня по всему телу пробежала легкая волна — нечто похожее на ощущения рыбака, увидевшего вдруг, как его поплавок погрузился в спокойную воду, — но мгновение спустя мое лицо уже не выражало ничего, кроме абсолютного равнодушия.
— В самом деле? Просто у жителей Мареммы наблюдается склонность к абстрактным разговорам, А о луне они, случайно, не говорят?
Бельсенца бросил на меня хитрый взгляд.
— Можно было бы поговорить и о луне. Добровольных астрологов тут хватило бы. Только вот ведь какое странное дело: невозможно ни понять, откуда эти слухи идут, ни пресечь их. Вам, вероятно, известно, господин Наблюдатель, что Маремма — город не слишком здоровый… Мне платят за то, чтобы я был в курсе всего. («Платят недостаточно», — предельно явственно прозвучало в его голосе. Теперь я обратил внимание на желтый цвет его лица, на вид его — не столько аскетический, сколько осунувшийся, — на весь его покорный облик подчиненного. «Колониальный чиновник, пренебрегающий своим здоровьем, — мелькнуло у меня в голове. — Еще год-два, и его песенка будет спета»), и я окончательно пришел к выводу, что приступы здешней лихорадки объясняются не только наличием болот.
— Вы говорите очень грустные вещи. А вы не могли бы рассказать мне поподробнее?
В глазах Бельсенцы появилась какая-то отрешенность, и, соединив руки, он принял позу человека, не без труда пытающегося сконцентрироваться на своих зыбких впечатлениях; так, когда, проснувшись, человек начинает рассказывать свой сон, он невольно повторяет мимику спящего.
— Я был не прав, упоминая о слухах, и был абсолютно прав, говоря про лихорадку. С одной стороны, это вроде бы пустяк. Сама по себе лихорадка не представляет собой ничего, она просто знамение… Не принимайте и меня тоже за больного… Видите ли, я живу здесь, и мне трудно объяснить вам. Но сам я, увидев вас сегодня вечером, стал понимать все происходящее немного лучше. Уже само это мое желание с вами поговорить — это тоже своеобразный знак. Вы не из Мареммы, и говорить с вами, поверьте мне, хоть в это и верится с трудом, — это все равно что распахнуть окно комнаты, где находится больной. В Маремме тяжело дышать, мы здесь ловим ртом воздух, я не оговорился: мы ищем воздуха.