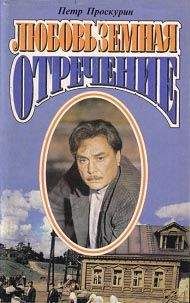Петр Проскурин - Седьмая стража
— Наука может развиваться только в столкновении мнений, так ведь? — спросил он с непонятной веселостью в лице. — Так почему же я должен вас не любить, Климентий Яковлевич? Вы, профессор, мой лучший друг, помогаете отточить мысль, выверить все сомнительное. История наших с вами корней, история славянства, которой, надо признать, по непонятным причинам никто серьезно не занимается, тема не случайная для меня. Убежден, будущее таит много самых невероятных сюрпризов, и спасение в одном — национальном единении. Это доказано прошлым, это не раз повторится и в будущем. Иных путей я не знаю. Потом же, я русский, нахожусь на русской земле, вышел из нее, и хочу заниматься русской историей. Что же в этом предосудительного, профессор?
Заслушавшись романтической и горячей речью молодого человека, профессор Коротченко не дал, однако, застать себя врасплох; он тихонько пошевелил короткими пальцами правой руки, до сего времени спокойно лежавшей на краю письменного стола и, словно вспомнив нечто совершенно неотложное, несколько раз погладил свою бритую и гладкую голову.
— Так, так, так, уважаемый коллега, — мягко кивал он. — Вопросик, вопросик можно? Чувство национального достоинства, национального самосознания, — хорошо, хорошо, хорошо! И тут же — чувство национальной исключительности — один, заметьте, один лишь малюсенький шажок… А далее? Пропасть… В глазах темно… Из сей же удушливой пропасти то и дело высовывается рожа… да, да, да — рожа национализма, а проще — фашизма.
— И опять вы высказываете недюжинный ум, профессор! Разумеется, критика необходима в любом творческом процессе. — Меньшенин позволил себе слегка улыбнуться. — Но здесь ваши сомнения вряд ли правомерны. В русском человеке никогда не было подобного национализма, допустим, такого, как у немцев, англичан или японцев. Я уже не говорю о евреях или других небольших народах. У русского человека крайнее проявление национального отмечалось лишь в его глупейшей способности бросаться грудью на пулемет или с гранатой под танк… конечно, когда ничего другого не оставалось. А так у него вообще, к сожалению, и на беду ему, национализм, этот могучий инстинкт самосохранения, полностью атрофирован, — то ли заслуги ваших дорогих норманнов, то ли еще что…
— Мне, конечно, очень поучительно следить за вашим диспутом, — вмешался Одинцов, почувствовав излишнее напряжение и при этом слегка откидывая голову с густой гривой волнистых, хорошо сохранившихся, но уже облагороженных тусклым серебром волос. — Простите, коллеги, через полчаса мне необходимо на совещание, отложим разговор. А вам, Алексей, обещаю все продумать… прощупать в нужных инстанциях, — на нашем уровне мы этого осилить не сможем, решить тем более.
— Ага, все стало на место, — сказал Меньшенин, вздыхая. — Вы хотите посоветоваться в верхах, не повредит ли моя, странная, на ваш взгляд, затея дальнейшим видам России! Позвольте, позвольте, не повредит, не должна повредить, наоборот, — однако… стоп! стоп! — приказал он себе, выдвигаясь на середину кабинета и замирая, словно чем-то в один миг оглушенный; глаза у него сделались совершенно бессмысленными. От столь странного его превращения Одинцов покосился в сторону своего верного заместителя, — тут ли? Профессор Коротченко был, разумеется, на месте, положив пухлые ладошки одна на другую и выставив их на край стола, он тоже смотрел с ожиданием. «Ишь ты, как он комедию-то ломает! — думал он в некотором предвкушении дальнейшего забавного зрелища. — Шел бы в театр, там бы ему в самый раз выкрутасничать!»
А между тем, Меньшенин действительно испытывал в этот момент сильнейшее затруднение и почти непреодолимый разлад с собою, словно кто взял и перевернул картину жизни, показывая ее в истинном свете и значении. Его живое воображение тотчас нарисовало нечто фантастическое: он увидел перед собой непроходимый заслон из бесчисленного множества Одинцовых и Коротченок; плечом к плечу сидели они перед ним рядами, все с философским выражением лица, и все выставив вперед и положив одна на другую пухлые ладошки; вот тут он и понял, что ему вовек не прорваться сквозь эту глубоко эшелонированную оборону. Еще пытаясь нащупать выход, он вертел головою в разные стороны и везде видел одно и то же; ни с тылу, ни с флангов прорваться было нельзя; но и показать своего поражения вот так просто нельзя было.
Заставив даже невозмутимого профессора Коротченко вздрогнуть руками, Меньшенин вскрикнул, бросился к Одинцову.
— Я вас расцелую, Вадим Анатольевич! — восторженно кричал он. — Можно? И вас расцелую, Климентий Яковлевич, дорогой мой учитель и указующий перст!
Он лез, и очень напористо, к Одинцову, широко раскинув руки, хотя тот упорно не допускал его близко и энергично отпихивал.
— Да что такое? — волновался солидный, в годах, ученый. — Да вы наконец объяснитесь! — решительно требовал он. — Объяснитесь, а тогда и целоваться будем!
— А я объясню! Объясню! — возбужденно говорил Меньшенин. — Вы ведь меня спасли, я свет увидел! Я только теперь, сейчас, вот в этом кабинете, — тут он топнул ногой в пол, — все понял! Главное, действительно, дальнейшие виды России, а еще важнее, что этого никому не дано перешагнуть! А посему мне надо бросить всю свою ахинею и отыскать себе полезное место для жизни и развития человечества. Вот за то и спасибо!
— А ты, Клим, что-нибудь понял? — озадаченно подал голос Одинцов, стараясь остановить и успокоить зятя, но Коротченко лишь молчаливо пожал плечами и вновь сложил на краю стола пухлые ладошки, — стал остро и неотрывно смотреть на Меньшенина, словно ожидая чего-то еще более интересного.
— Ладно, не надо притворяться, — оскорбился молодой человек и примиряюще заулыбался. — У народа свой тайный гений есть, он все равно вас вокруг пальца обведет!
— Вот ахинея, какой еще такой гений?
Окончательно огорчившись, Одинцов махнул рукой, и Меньшенин, убедившись, что его верно поняли, энергично поклонившись и даже вроде бы задиристо прищелкнув каблуками, вышел, а два умудренных жизнью ученых довольно долго и молча сидели и, переглядываясь, отдувались и пыхтели, причем профессор Коротченко, поджав губы, по-змеиному философски глядел на свои толстые, похожие на сдобные, праздничные оладьи, ладошки на краю стола, а хозяин кабинета дважды или трижды, и всякий раз в ином значении повторив свое любимое: «Ну, знаете ли», как можно дальше выпятил нижнюю губу, как-то сразу успокоился и потянул к себе очередную кипу бумаг для подписи. Старые соратники, единомышленники и друзья, несмотря на столь различные характеры, давно стали одним едино действующим целым; они понимали друг друга и без лишних слов.
— Разухабистый пошел после войны молодой народ… А этот — артист, артист, — вздохнул наконец профессор Коротченко. — Так и норовит нахрапом, без всяких трудов, в дамки! Так и норовит! Ты уж не обижайся за своего зятя… Раз, два — и готово, вот что ему нужно. Мы всей жизнью высокое утверждали, доказывали, мучились, ошибались, они же вот так напролом норовят, они тебе сразу гоголем норовят. В физиономию! в физиономию! — для вящей убедительности повторил он, часто и беспорядочно помаргивая белесыми, припухшими веками, что с ним случалось только в минуты сильного душевного волнения. Одинцов потянулся и дружески, легонько и ободряюще, похлопал его по руке, всем своим видом говоря, что волноваться до такой степени и расстраиваться нет никаких причин.
— Нет, нет, к черту! — окончательно огорчился профессор Коротченко, злясь и на себя, и на старого друга. — Ты мне скажи, он, твой зять, действительно пятнадцать языков знает? Как ты это объяснишь?
Одинцов долго глядел на него, затем развел руками и заметно побледнел.
— Необъяснимо, но это так, Клим… Немецкий, английский, французский, испанский, греческий — понятно… Литература, философия, история… Но японский и арабский? Какого дьявола? Ну, латынь… я тоже ее зубрил, но парфянский-то с древнееврейским, то бишь, арамейским?.. И ведь владеет совершенно свободно, словно и родился где-нибудь в Сирии…
— Парфянский? — не удержавшись, опять удивился профессор Коротченко, чувствуя какую-то новую и ненужную тяжесть на душе. — А может, он, брат, того, — профессор поднял к своему, ставшему шишковатым, лбу сложенные щепотью пальцы, — гм, переусердствовал? Парфянский, арамейский, а? Ну, ничего, мы это как-нибудь раздемократим и вычислим…
— А ты, Клим, что сам думаешь? — возвращаясь к более реальным делам, кивнул, брезгливо поежив губы, на лежащее на столе заявление зятя Одинцов. — Положа руку на сердце?
— Твой, твой зять, Вадим, — не стал ходить кругом да около Коротченко. — Мне здесь особо думать не приходится. Родственные связи всегда сила, движут общество, историю. Но это истина не для коммунистов! — опять усиленно заморгал он, однако успел заметить мелькнувшую на лице Одинцова иронию, явно относящуюся к тому, что всего два месяца назад он, профессор Коротченко, пристроил своего совершенно тупого и бездарного отпрыска на весьма выгодную научную должность. — Конечно, конечно, у нас еще достаточно родимых пятен, — тут же отвечая другу, еще пуще заморгал профессор. — Но! Но, еще раз повторяю я! Мы отлично осознаем свои пятна и стараемся скорее от них избавиться. Мы их скребем, мы их непрерывно с болью, с кровью… вместе с собственной кожей сдираем с себя! Вот в чем разница. С другой же стороны, ты, Вадим, и твой зять стоите совершенно по разную сторону баррикад. И я — твердо помни! — я всегда по твою сторону, всегда и во всем! А твой талантливый зять, в этом ему никак не откажешь, прежде всего хочет одним ударом разрушить все, что мы с тобой складывали по кирпичику всю жизнь! Парфянский! В его годы! Откуда? Зачем? И, однако, приходится еще раз повторить — талантлив! — крякнул профессор Коротченко со вкусом, словно еще и еще вгонял по самую шляпку гвоздь в сумрачную, раздосадованную душу своего коллеги. — Вот тебе мое принципиальное мнение…