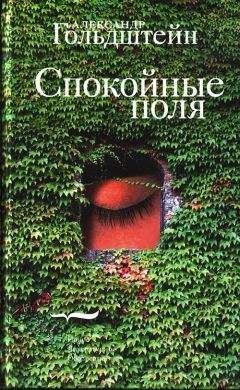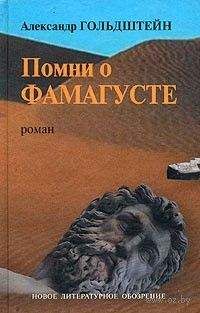Александр Гольдштейн - Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики
Он разглядел в Р. цельную андрогинную плоть из мифа Платона, которую удары судьбы, а не природа вещей заставили расколоться надвое. Дихотомия красных и белых, прочие деления-костодробления были частными проявленьями единого смерча, которому равно служили Ленин и Врангель, — агенты единства, полагавшие, что воюют друг с другом. «Я // белому // руку, пожалуй, дам, // пожму, не побрезговав ею…» Это он еще очень скромно, он был способен на большее: рукопожатие с анонимным белым, литературным воином с котомкой, сгнившим внутри армии полотеров-шоферов-швейцаров-клошаров евразийского исхода-к-востоку и западу в общей смрадной промежности от Галлиполи до марсельской больницы для бедных в Шанхае, — ничто против слепящего светового пучка и (вариант) полупрозрачного скульптурного мифа, в котором уже навсегда, как комар в янтаре, пребудет восславленный им генерал, его генерал — трижды землю поцеловавши, трижды город перекрестил.
«Поэмой зачитывались белые, забыв, что „хорошо“, поэмой зачитывались красные, забыв проклятие тому, что библиотека сгорела», — писал он о «Двенадцати» Блока, мечтая о той же судьбе для себя, о притяжении всей Р. без различенья цветов ее снега и крови — и он добился, добился судьбы. Цветаева одна его поняла, она того же хотела, единовременной любви красных челюскинцев (за вас каждым мускулом держусь и горжусь) и белой Вандеи (за словом: долг — напишут слово: Дон), и еще успела застать нераздельность стихии, единый ее темпоритм: «Когда я однажды читала свой „Лебединый стан“ в кругу совсем неподходящем, один из присутствующих сказал: Все это ничего. Вы — все-таки революционный поэт. У вас наш темп». Или такими словами: «Знаю еще, что истинные слушатели моему белому Перекопу — не белые офицеры, которым мне, каждый раз как читаю, в полной чистоте сердца хочется рассказать вещь в прозе — а красные курсанты, до которых вещь вплоть до молитвы священника перед наступлением — дошла бы — дойдет».
Как аттический солдат, в своего врага влюбленный. Белая моя белая, красная моя красная. Тотальное рев. тело без границ, аннексий и контрибуций. Где искать тебя, где твое имя? В Пхеньяне, в Манагуа, в Кембридже, штат Массачусетс? Может, ты обитаешь в искусстве? Но, разрешая костры всесожжения, либеральная демократия гасит их пламя, не выходя из музеев и галерей. Деньги кураторов берут даже неподкупные революционеры-чиканос, которые так долго и безутешно изображали своего Че Гевару на стенах калифорнийских общественных зданий, что доходность этого предприятия никем не могла быть оспорена. Всякий раз, когда я прохожу по тель-авивской улице Фришман и вижу в окне коммерческой конторы роскошный постер с команданте Че, во мне крепнет уверенность, что дело его в надежных руках и он не напрасно отправился умирать в Боливию. Йозеф Бойс полагал, что материя общества, взятая в оборот прямой демократии инсталляций и референдумов, окажется в его пальцах артиста столь же податливой, что мед, войлок и жир, но этого не произошло; он не смог добиться даже того, чтобы в Дюссельдорфскую академию принимали всех без разбора. Пережив личное чудо воскресения, он мечтал о воскресении общества, а стал поп-звездой и любимым шаманом, персонажем для археологов окаменевшего говна: черные доски, на которых Бойс вычерчивал графики радикальнейших трансформаций, заботливо складывались во все тот же сундук мертвеца, ибо они уже были национальным достоянием немцев.
А это значит, что Революция сейчас там же, где была раньше, — с Маяковским, у нее нет другого пристанища. Он укрыл ее от непогоды, как Феодора — святые иконы, поместил внутрь себя, где она доразвилась до своей геральдической чистоты. Сегодня, после распада советского мира, возникает соблазн истолковать мифопоэтический космос Маяковского в его самостоятельном бытовании, независимом от тогдашней «реальности» и «политики». Совершает же полет в межвременной пустоте, врезываясь в звезды, какой-нибудь «Парсифаль» Вольфрама фон Эшенбаха — осколок умершей культуры, литературный памятник на развалинах и пепелище, коему (пепелищу) мы тщетно стремимся придать былое несожженное очертание. Это ложный соблазн: Вл. М. и был той самой советской действительностью, какой эта действительность имела шанс состояться, если бы — повторю сказанное выше — она не капитулировала и не отдалась насильникам. Маяковский — ее квинтэссенция, «гармонический максимум» (Цветаева). Я не могу без волнения читать про то, как в Ярославле поэта настигла весть о взятии Шанхая войсками Кантона, или описание могил у Кремлевской стены, или в различных местах разбросанные фрагменты о том, как в стране созревают целые области изобильного существования. Но и скромнейший советский факт, отлетая от своих тщедушных значений, обретал весомую значимость в этих гиперболических эмпиреях, в бархатных артикуляционных раскатах: Вл. М. проклинал и увенчивал, как Пиндар воспевал колесничих, олимпийских атлетов.
Для того чтобы уберечь целостность мира, без которого он не мыслил себя и свою жизнь, Маяковский писал гениальные «поздние произведения» (открещиваясь от ненавистной идеологии, их не видят в упор), но у текста неизменная участь: быть фиксацией, буквой, неподвижным знаком процесса — эргоном. Даже если его трактовать в ключе Барта, когда все устойчивое, стабильное и статичное, все, что имеет качества довлеющего себе «знака», закрепляется за «произведением», а «текст», избавленный от ноши, возносится в зону свободного интертекстуального парения, в «галактику означающих», то и в этом случае он далеко не тождествен перманентной энергейе и может быть только чахлой метафорой Революции, указанием в ее сторону, но не отображением ее естества. В таких разъяснениях Вл. М. не нуждался, зная предмет лучше тех, кому он представал в виде занимательной теоретической апории, а не жизненной драмы. Найденный же им выход из противоречия, по всем статьям безысходного, был простым, абсолютным и, как выяснилось, самоубийственным. Отрешившись от идеологии конечного художественного результата, Вл. М. ее заменил всеобъемлющей и превосходящей искусство перманентной динамикой творчества, в котором цена и значение текстов (самих по себе поразительных) определились заведомо ниже цены и значения непрерывного процесса их производства, подчиненного высшей цели: спасению цивилизации Маяковского. Неудержимость этого теургического семиосиса была эквивалентна вечному движению Языка и Революции — бытие духа мыслится в деятельности. Только безостановочное энергейтическое стихотворное говорение (а не изолированные тексты-эргоны) еще могло поддержать революционный огонь. Иными словами, Маяковский не должен был останавливаться в речи ни на мгновение, и он, уже почти неантропоморфным импульсом воли связавший себя с ораторской неумолкаемостью, тем самым определил свою скорую гибель, потому что в проекции человеческого бесконечность равняется смерти, не жизни. А черный парадокс был в том, что он еще раз избавил свою эпоху от Р, нагрузив ее всю на себя, как Спаситель — грехи человечества; но каноническая фабула его судьбы, этого последовательного подражания Христу, пронизанного идеями страдания, искупительной жертвы и воскресения, слишком очевидна и достаточно изучена, чтобы ее разбирать здесь специально.
У него развился ужас перед стагнацией, паузой, интервалом, забвением динамических первоначал Октябрьской эры, красные стрелы которой лежали в пыли, накрытые выцветшими знаменами. Скульптурная галерея его врагов открывалась монументальными изваяниями Бюрократа и Хулигана, аллегорических монстров безвременья. Препятствуя передовому движению, они пародировали его своей ублюдочной гиперактивностью — перекладыванием с места на место запретительных циркуляров, разжиганием пьяных драк. Он видел, что эпоха намеренно, как уклоняющийся от общих работ зэк, вывихнула себе сустав, и в одиночку, ужасным усилием вправлял его в своем слове: «Знайте, // граждане! И в 29-м // длится // и ширится // Октябрьская революция. // Мы живем // приказом // октябрьской воли. // Огонь // „Авроры“ // у нас во взоре. // И мы // обывателям // не позволим // баррикадные дни // чернить и позорить» («Перекопский энтузиазм»).
Октябрь уравнивался им с океаном — живым воплощением клокочущей вечности: «Смотрю, // смотрю — // и всегда одинаков, // любим, близок мне океан. // Вовек // твой грохот // удержит ухо. // В глаза // тебя // опрокинуть рад. // По шири, // по делу, // по крови, // по духу — // моей революции // старший брат» («Атлантический океан»). Любое, сколь угодно недостоверное доказательство длящейся полноты революционной ткани (мизерных, обманных ее участков) служило поводом для безудержных дифирамбических восхвалений, словно он получил эту весть из уст самих парок или уж Пенелопы — покровительницы одиноких вышивальщиц и ткачих: «Всем пафосом // стихотворного рыка // я славлю вовсю, // трублю // и приветствую // тебя — // производственная непрерывка» («Голосуем за непрерывку»). И еще в этом же роде: «К таким // не подойдешь // с американской меркою. // Их не соблазняют // ни долларом, // ни гривною, // и они // во всю // человечью энергию // круглую // неделю // дуют в непрерывную» («Американцы удивляются»).