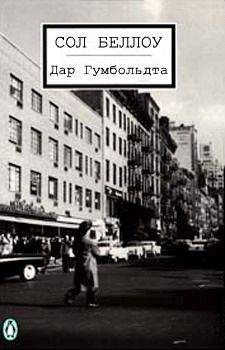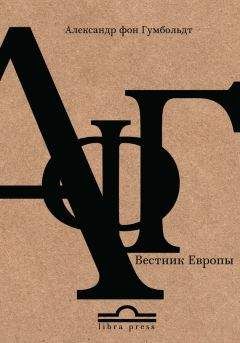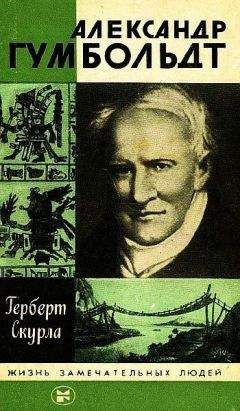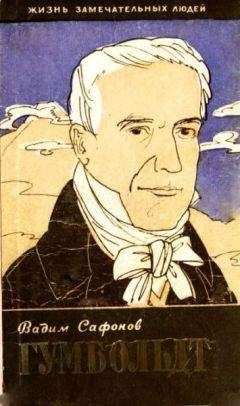Уильям Кеннеди - Железный бурьян
— Ты в кого–нибудь влюблен?
— Нет, м… нет. Я еще молод.
Катрина рассмеялась, а Френсис покраснел.
— Ты такой красивый мальчик. В тебя, наверно, все девушки влюблены.
— Нет, — сказал Френсис. — У меня не очень получается с девушками.
— Почему?
— Я не говорю им то, что они хотят услышать. Я не умею разговаривать.
— Не все же девушки хотят от тебя разговоров?
— Которых я знаю — все. Я тебе нравлюсь? Очень? Я тебе нравлюсь больше Джоанны? В таком роде. Нет у меня времени для такой ерунды.
— Тебе снятся женщины?
— Иногда.
— А я тебе снилась?
— Один раз.
— Это было приятно?
— Нет, не особенно.
— Вот как? А что было?
— Вы не могли закрыть глаза. Только смотрели и даже не моргали. Я испугался.
— Этот сон мне совершенно понятен. Знаешь, один великий поэт сказал, что любовь входит через глаза. Человеку надо быть осторожным, чтобы не увидеть слишком много. Надо ограничивать свои аппетиты. Для большинства из нас мир чересчур прекрасен. Он может убить нас красотой. Ты никогда не видел, как падают в обморок?
— В обморок? Нет.
— Кому ты сказал «нет»?
— Нет, Катрина.
— Тогда я устрою для тебя обморок, милый Френсис.
Она встала, вышла на середину комнаты, посмотрела на Френсиса, закрыла глаза и упала на ковер, приземлившись сперва правым бедром, а потом опрокинулась на спину лицом к стене, забросив правую руку за голову. Френсис стоял и смотрел на нее.
— Хорошо у вас получилось.
Она не шевелилась.
— Ну, можно уже встать, — сказал он.
Она по–прежнему не шевелилась. Он взял ее за левую руку и тихонько потянул. Она не шевельнулась. Взял за обе руки и потянул. Тело ее никак не отозвалось на это, и глаз она не открыла. Он посадил ее, но тело осталось таким же вялым, глаза были закрыты. Тогда он взял ее на руки и перенес на диван. Когда он усадил ее, она открыла глаза и выпрямилась. Френсис все еще придерживал ее одной рукой за спину.
— Меня научила этому мать, — произнесла Катрина. — Сказала, что это может выручить при затруднительной ситуации в обществе. Однажды я исполнила это в живых картинах, и мне долго аплодировали.
— У вас хорошо получилось, — сказал Френсис.
— Я могу еще устроить припадок каталепсии.
— Я не знаю, что это такое.
— Это когда ты замираешь в каком–нибудь положении и не движешься. Вот так.
И вдруг оцепенела с расширенными, немигающими глазами.
Спустя неделю Катрина проходила мимо пастбища Малвани, где Френсис со случайной компанией играл в бейсбол. Она остановилась на самом краю поля, в двух шагах от улицы, а от Френсиса, который болтал и приплясывал вблизи третьей базы, ее отделял весь бейсбольный квадрат. Увидев ее, Френсис перестал болтать. В этом иннинге мяч к нему не попал ни разу. В следующем до биты его очередь не дошла. Катрина дождалась третьего иннинга, когда он поймал низко летящий мяч, а потом еще и высадил бегуна, увидела его дальний удар, которого ему хватило на две базы. Когда он добежал до второй, она отправилась домой, на Колони–стрит.
В тот день, когда он сделал новые навесы, Катрина позвала его обедать. Когда ее муж отсутствовал, а мальчик был в школе, она неизменно находила время поговорить с ним. Она подала ему омара gratine[8], спаржу под голландским соусом и «Блан–де–Блан». Из всего этого Френсису была знакома только спаржа, без соуса. Катрина подала ему в столовой, молча, потом села напротив, по–прежнему молча принялась за еду, и он, глядя на нее, — тоже.
— Вкусно, — сказал он наконец.
— Правда? А вино нравится?
— Не особенно.
— Отборное. Ты его еще полюбишь.
— Как скажете.
— Я тебе снилась еще?
— Раз. Не могу рассказать.
— Нет, расскажи.
— Дурацкий сон, сумасшедший.
— Сон и должен быть таким. А Катрина не сумасшедшая. Скажи: «Что для вас сделать, Катрина?»
— Что для вас сделать, Катрина?
— Рассказать мне свой сон.
— Ну, вы там — маленькая птичка, но еще и такая же, как вы в жизни, и прилетела ворона и съела вас.
— А кто ворона?
— Простая ворона. Вороны всегда едят птичек.
— Тебе хочется меня оберегать, Френсис.
— Не знаю.
— А что обо мне знает твоя мать? Она знает, что мы разговариваем как друзья?
— Я ей не говорю. Я ей ничего не говорю.
— Хорошо. Никогда не рассказывай обо мне матери. Она твоя мать, а я Катрина. И останусь Катриной на всю твою жизнь. Тебе это известно? Ты никогда не встретишь такой, как я. Другой такой быть не может.
— И я так думаю.
— Тебе когда–нибудь хочется поцеловать меня?
— Всегда.
— Что еще тебе хочется со мной сделать?
— Не могу сказать.
— Можешь сказать.
— Я — нет. Я вперед сдохну.
Когда они поели, Катрина наполнила оба бокала и поставила на восьмиугольный столик перед диваном, где сидела обычно; а он сел в кресло, теперь уже как бы свое. Он выпил все вино, она налила снова, и они говорили о спарже и об омаре, и она объяснила ему, что значит gratine и почему этим французским словом называют блюдо, приготовленное в Олбани из омара, пойманного в Мэне.
— Чудесные вещи приходят из Франции, — сказала она ему, а он, разгоряченный вином, удовольствием и перспективами, чувствовал себя непринужденно и все внимание сосредоточил на ней. — Ты знаешь о Святом Антонии из Египта, Френсис? Вы с ним одной веры — веры, которую я нежно люблю, не разделяя. Я говорю о нем потому, что он был искушаем плотью, и говорю о моем поэте, который пугает меня, ибо видит в женщине то, чего мужчина не должен бы видеть в женщине. Вот уже тридцать лет, как он умер, мой поэт, но он видит меня насквозь — в образе женщины, заключенной в клетку и рвущей зубами тело живого кролика[9]. Хватит, говорит ее сторож, нельзя сразу съедать все, что дано тебе на день, — и отнимает кролика, оставляя у нее в зубах свисающие кишки. Она по–прежнему голодна, только во рту у нее вкус того, чем она могла бы напитаться. О, маленький Френсис, кролик мой, ты не должен меня бояться. Я не разорву тебя на куски, и твои нежные внутренности не будут свисать у меня изо рта. Прекрасный Френсис, исполненный многих нежных достоинств, прекрасный юноша, мой желанный, не говори обо мне плохо. Не говори, что Катрина создана для огня luxuria[10]: ты должен понять, что я Антоний и дьявол искушает меня твоей нежностью — в моем доме, на кухне, во дворе, на моем любимом дереве, — тобой, мой нежный Френсис, несший меня нагую на руках.
— Я не мог допустить, чтобы вы вышли на улицу без одежды. Вас бы арестовали.
— Знаю, что не мог, — сказала Катрина. — Именно поэтому я и разделась. Я другого не знаю — каковы будут последствия. Не знаю, хватит ли у меня сил сопротивляться искушениям, которые своевольно вношу в свою жизнь. Знаю только, что любовь моя направлена в тысячу сторон, а так не должно быть, ибо это удел блудницы. Мой поэт говорит, что женщина в клетке с кроликом в зубах — истинный и ужасный образ нашей здешней жизни, а не женщина, оплакивающая вслух несбыточные надежды… мертва, до чего мертва, до чего печально. Ты, конечно, сам понимаешь, что я не мертва. Я просто женщина, добровольно отдавшаяся в рабство прекрасному человеку, образу жизни, который он называет таинством, а я — великолепной тюрьмой. Антоний жил отшельником, и я подумывала о такой жизни — чтобы противостоять Врагу Но муж боготворит меня, а я его, и оба мы боготворим нашего единственного сына. Понимаешь, не бывало на свете близости более прекрасной и теплой, чем у нас в доме. Мы семья благоговения, успеха, нежно исцеляемых ран. Мы томимся друг без друга, жаждем родного прикосновения. Мы не можем без этого жить. И, однако, ты здесь, я мечтаю о тебе, желаю наслаждений, о которых ты не смеешь говорить, радостей, недоступных даже твоему воображению. Я жажду радостей мадемуазель Ланцет[11], преследовавшей врачей так же, как я преследую тебя, мой чуткий юноша, мой прекрасный Адонис Арбор–хилла. Она любила своих врачей и их дело. Кровь на их фартуках была знаком их совершений в операционной, и мадемуазель обнимала ее, как я обнимаю твою лебединую шею с ожерельем грязи и гляжу в твои глаза, где застыла боль молодой невинности. Ты веришь, что Бог есть, Френсис? Конечно, веришь, и я тоже, и верю, что Он любит меня и будет лелеять меня на небесах, как я Его. Мы будем возлюбленными. Бог создал меня по Своему подобию, так почему мне не думать, что Он тоже невинное чудовище, любящее таких, как я, соблазнительница детей, запертое в клетку животное с кровавыми внутренностями в зубах, женщина, обнимающая окровавленные фартуки, припадающая к алтарю всего, что есть святого, в покаянной позе всех лицемеров? Думал ли ты, Френсис, когда я звала тебя с дерева, что вступишь в мир, подобный тому, где я обитаю? Поцелуешь ли меня, если я закрою глаза? И если упаду в обморок, расстегнешь ли платье, чтобы мне легче дышалось?