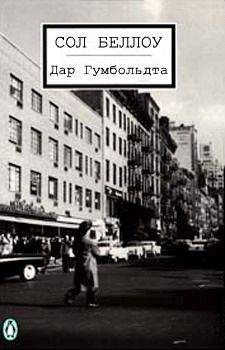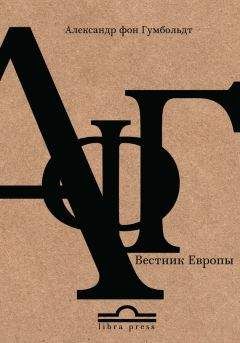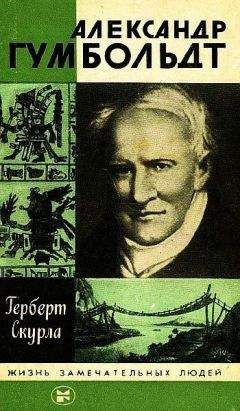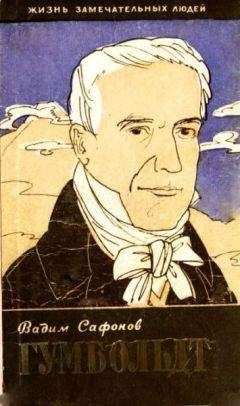Уильям Кеннеди - Железный бурьян
— Ее–есть, — откликнулась она двумя нотами. — Ста–арье.
Росскам остановил лошадь перед углом дома.
—На заднем крыльце, — сказала женщина. — Газеты, ванна и кое–что из одежды.
Росскам застопорил тележку и слез.
— Ну? — сказал он Френсису.
— Не хочу заходить. Я ее знаю.
— Ну и что?
— Не хочу, чтобы она меня видела. Миссис Диллон. У нее муж железнодорожник. Я их всю жизнь знаю. Мои родственники живут вон в том доме. Я на этой улице родился. Не хочу, чтобы соседи увидели, что я похож на бродягу.
— А ты и есть бродяга.
— Мы с тобой это знаем, а они — нет. Я всё буду таскать. В следующий раз всё сам перетаскаю. Только не на этой улице. Ты понял?
— Чувствительный бродяга. Чувствительного бродягу я нанял в помощники.
Росскам отправился за старьем один, а Френсис стал смотреть через улицу и увидел, как мать в домашнем платье и фартуке украдкой сыплет соль на корни молодого клена, росшего на дворе у Догерти, но бесцеремонно ронявшего веточки, листья и крылатки на цветы и помидоры Феланов. Катрин Фелан сказала своей почти тезке Катрине Догерти, что мусор и тень этого дерева Феланам нежелательны. Катрина обрезала, где смогла, нижние ветви; обрезать верхние попросила Френсиса, к семнадцати годам прослывшего среди соседей мастером на все руки; и Френсис сделал: влез наверх и отпилил живые руки сильного, молодого дерева. Но на каждую обрезанную ветвь жизнь ответила новыми побегами, и дерево зазеленело пышнее всех на Арбор–хилле, приводя в ярость Катрин Фелан, которая сыпала еще больше соли на корни, прораставшие под забор и все нахальнее вторгавшиеся на участок Феланов.
— Мама, почему ты хочешь погубить дерево? — спросил Френсис.
А мать сказала:
— Потому, что дерево не имеет права залезать на чужие дворы. Если нам понадобится дерево на дворе, мы посадим свое, — сказала она и подбросила соли. Листья на дереве кое–где увяли, а одна ветвь засохла окончательно. Но засолка не дала результата: Френсис увидел, что клен вырос вдвое против прежнего; зеленый гигант стоял над бурьяном и тянулся к солнцу оттуда, где некогда был двор Догерти.
Под ярким полуденным солнцем 1938 года дерево сократилось до половинного размера сорокалетней давности — такого, как в июле 1897–го, когда Френсис, сидя посреди кроны, спиливал ветку над головой. Он услышал, как открылась и закрылась задняя дверь нового дома Догерти, глянул вниз со своего насеста и увидел Катрину Догерти с продовольственной сумкой; на ней была серая летняя шляпа, атласные серые бальные туфельки и больше ничего. Она спустилась по пяти ступенькам на заднюю веранду и направилась к новому сараю, где Догерти держали свое ландо и лошадь.
— Миссис Догерти, — крикнул Френсис и спрыгнул с дерева. — Как вы себя чувствуете?
— Я еду в город, Френсис, — ответила она.
— Вам не надо что–нибудь надеть? Какую–нибудь одежду?
— Одежду? — Она поглядела на свое голое тело, потом наклонила голову набок и, с насмешливо расширенными глазами, оцепенела.
— Миссис Догерти, — сказал Френсис, но она не ответила и не пошевелилась.
С перил веранды, которые он сооружал, Френсис взял кусок зеленой парусины, предназначенной для навеса над боковым окном, завернул в него голую женщину, взял ее на руки и внес в дом. Он усадил ее на диван в задней гостиной и, пока парусина еще не совсем сползла с ее плеч, стал искать в доме одежду. Он нашел халат, висевший на двери кладовки, поднял Катрину на ноги, просунул ее руки в рукава, завязал на ней пояс и, уже одетой, развязал под подбородком ленту шляпы. Потом снова усадил ее на диван.
В шкафчике он нашел бутылку шотландского виски, в буфете бокал, налил с четверть, поднес ей ко рту и уговорил глотнуть. Виски — волшебный напиток и вылечит вас от всех огорчений. Катрина отпила, улыбнулась и сказала:
— Спасибо, Френсис, ты такой заботливый.
Глаза ее уже не были расширены, муть из них ушла, оцепенение исчезло, лицо и тело оттаяли.
— Вам лучше? — спросил он.
— Мне хорошо, совсем хорошо. А ты как, Френсис?
— Хотите, я схожу за вашим мужем?
— Мужем? Мой муж в Нью–Йорке, боюсь, что он труднодосягаем. А зачем тебе понадобился мой муж?
— Может быть, привести кого–нибудь из родственников? Кажется, у вас был какой–то приступ.
— Приступ? Что значит — приступ?
— Там. На заднем дворе.
— На дворе?
— Вы вышли совсем неодетой, а потом как будто застыли.
— Послушай, Френсис, тебе не кажется, что ты слишком фамильярен?
— Этот халат я на вас надел. Я внес вас в дом.
— Ты внес меня?
— Завернул в парусину. Вот в эту. — Он показал на валявшуюся перед диваном материю. Катрина посмотрела на парусину, сунула руку за пазуху и пощупала голую грудь. Когда она снова посмотрела на Френсиса, он увидел в ее лице лунное величие, леденящий сплав красоты и заброшенности. В дальнем конце парадной гостиной Френсис увидел лоб и глаза Мартина, девятилетнего сына Катрины Догерти, который наблюдал все это из–за спинки стула.
Прошел месяц, и в день, когда Френсис доделывал двери в сарае Догерти, Катрина окликнула его с заднего крыльца, поманила его в дом, провела в заднюю гостиную, села на тот же диван и жестом предложила ему кресло напротив. В длинном желтом платье с мягким воротом она показалась Френсису солнечным лучом.
— Можно налить тебе чаю, Френсис?
— Нет, мэм.
— Не хочешь ли сигару моего мужа?
— Нет, мэм. Я их не курю.
— Неужели у тебя нет мелких пороков? Может быть, ты виски пьешь?
— Пробовал, но больше пиво пью.
— Ты считаешь меня безумной, Френсис?
— Безумной? Как это?
— Безумной. Безумной, как Черная Королева. Странной. Сумасшедшей, если хочешь. Ты считаешь Катрину сумасшедшей?
— Нет, мэм.
— Даже после моего приступа?
— Я и считал, что приступ. Приступ не значит, что сумасшедшая.
— Конечно, ты прав, Френсис. Я не сумасшедшая. Кому ты рассказал о том происшествии?
— Никому, мэм.
— Никому? Даже дома?
— Нет, мэм, никому.
— Я знала, что ты не расскажешь. Можно спросить — почему?
Френсис потупился.
— Люди могли не понять. Что–нибудь не то подумать.
— Что — не то?
— Всякое могут подумать. Раздетые люди — это не совсем обычное дело.
— Хочешь сказать, люди что–нибудь выдумают? Изобретут какие–то воображаемые отношения между нами?
— Могут изобрести. Чтобы сплетню распустить, им и не такого хватит.
— Значит, промолчав, ты хотел спасти нас от скандала?
— Да, мэм.
— Пожалуйста, не зови меня «мэм». Так обращаются слуги. Зови меня Катриной.
— Я не могу.
— Почему не можешь?
— Это слишком большая вольность.
— Но это — мое имя. Сотни людей зовут меня Катриной.
Френсис кивнул. Попробовал слово на вкус, молча, потом помотал головой.
— Не могу выговорить, — сказал он и улыбнулся.
— Скажи. Скажи: «Катрина».
— Катрина.
— Вот видишь, выговорил. Скажи еще раз.
— Катрина.
— Хорошо. Теперь скажи: «Что для вас сделать, Катрина?»
— Что для вас сделать, Катрина?
— Великолепно. И больше никак меня теперь не зови. Я настаиваю. А я буду звать тебя Френсисом. Так нас звали, когда мы родились, и в крещении это было утверждено. Друзья должны отбросить церемонии, а ты, после того как спас меня от скандала, — определенно мне друг.
В новой перспективе — с тележки старьевщика — Френсису открылось, что Катрина не только самая редкая птица в его жизни, но, возможно, самая редкая из всех, когда–либо гнездившихся на Колони–стрит. На улицу рабочих–ирландцев с нею явился дух изысканности, и улица немедленно ответила враждебными и завистливыми взглядами. Но через какой–нибудь год после ее вселения в новый дом (уменьшенную копию особняка на Элк–стрит, где она родилась, и взрастала, как тропическая орхидея, и жила до того, как вышла замуж за Эдварда Догерти, писателя, чьи занятия и слова, речь и национальность были анафемой для ее отца и который, в качестве компенсации, выстроил эту копию, где Катрина могла и дальше жить в своем коконе, — но выстроил в районе, где сам он никогда не почувствует себя чужеземцем, — строил с размахом, истратил весь капитал и для завершения вынужден был нанимать рабочую силу из соседских, вроде Френсиса) ее обаяние и щедрость, ее совершенная простота и множество других человеческих достоинств превратили враждебность большинства соседей в дружелюбный интерес и восхищение.
При первом появлении Катрины внешность ее поразила Френсиса: и ее светлые волосы, собранные сверху мягким венком, и темные блестящие глаза, полнота и величественность форм, царственная осанка, и неровные зубы, придававшие ее красоте неповторимость. Эта богиня, которая прошла нагой по его жизни и которую он нес на руках, сейчас сидела напротив Френсиса на диване и, глядя на него расширенными глазами, подалась вперед и спросила: