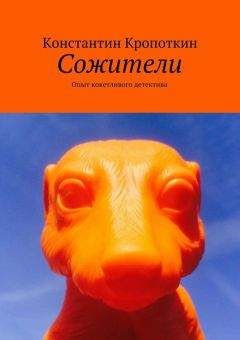Михаил Юдсон - Лестница на шкаф. Сказка для эмигрантов в трех частях
Ратмир благодарно поклонился Илье и вздохнул:
— Каков поп, вдалбливали нам, таков и приход. И что Русь — внутри нас. И что движенья нет, по сути, ибо пространство повсюду однородно — заснеженная Великая Степь, а к чему кочевать во Времени?.. Сиди на печи, а уж она едет! Теория дрейфа печи. Так что, каков Уход — нигде ничего не сказано, приходится доходить самим. Мне вот часто снится какая-то огромная тихая купель, прозрачная голубая вода залива, лед сколот, пышная зелень на берегу, белый песок, и мы с брателлами зачарованно смотрим с высокого борта струга, и солнце напекает латы… К чему сей сон, зигмунд его знает!
Ратмир решительно скатал свиток в трубку и взмахнул им, как мечом:
— Пора, пора проламывать лед и покидать первичный бульон! Выберемся на край Тарелки единым организмом, дерзновенно ползя на цепких формирующихся конечностях по скользкой, в цветочках, поверхности… Что уж там движет нами — свойственная ли Руси тяга к исправленью карт, стремление ли к самосовершенствованию? Вон стоялый праведник Федор Михалыч носил Дома сначала по восемь кирпичей, а потом аж по пятнадцать стал перетаскивать!..
Лицо Ильюши: горбоносое, вытянутое, подслеповатое (мое, значит, очкастое лицо в его простой оправе) выражало какую-то тупую, болезненную заботливость (о, как он угадал!).
«Правда, штольц, обрести новые небеса и новую землю? — лениво размышлял Илья, ковыряя заплату на валенке. — На вывод, в дивное дикое поле, с табунным резонансным топотом? Там, слышно, — невидаль! Не надо будет больше пробираться к кучам мерзлого угля, откалывать, озираясь, куски и тащить в наволочке, по пути подбирая щепки для растопки. Не потребуется ходить с ведрами на саночках за водой, спускаясь к проруби по проклятому обледеневшему откосу с вмерзшими дохлыми песцами (а ведь есть, говорят, такие ведра, что идут домой сами). Хочется, наконец, сидеть возле оттаявшего окна, завешенного тонкими прозрачными одеялами (говорят, есть такие), а окно приоткрыто, и ветерок (не пурга, смутно представляете?) надувает и колышет их… Причем сидеть не на привычном старом ящике с торчащими сучками, а на ящике мягком (говорят, существует), под лампой, которая светит, вблизи батареи, которая греет, — и держать на коленях не Книгу, а книгу, а на стене — полки из гладких блестящих досок (говорят!..), а на полках книги, книги, книги, и письменный стол, как советуют, придвинут вплотную, и самопишущее перо под рукой, а за окном скита не вечнозаснеженная помойка с обрыдлыми пирамидами, а что-нибудь, я даже не знаю… другое! В ином инее… Хочется также большей предсказуемости при выходе из подъезда, какой-то хотя бы последовательности («один из них Утоп…»). А то вместо обещанного острова канцлера из морозного тумана все время выплывает остров доктора…»
— Но с другой, с другой стороны, с родимой, так сказать, сторонки! — смиренно встрял Внутренний, скорей даже Нутряной Голос. — Отродясь жить на Руси, в теплой ее шерстке, худо-бедно в сытости и оседлости — и вдруг уходить из избы, бродить, скитаться, неизвестно где паразитировать — на чужой стороне, за чужим столом — неблагодарно, даже неудобно как-то. Да и ухо с детства шилом проколото — знак рабства навеки… А тут милый знакомый подъезд с его домашними запахами, родная речь-матерь, ласково вопрошающая: «Яша, хочешь щец?» А куда к лешему девать врожденную здешнюю способность различать десятки оттенков цвета снега?..
— Эх, было бы все очерчено, тут формула, тут геометрия, а то у нас все какие-то неопределенные уравнения! — горячо отвечал себе Илья. — Уехать-остаться, ать-два… Уехать и, таким образом, — остаться, уцелеть?.. Русь и «Я». Помнишь это знаменитое сравнение с замерзающими песцами? Ну, как же — замерзающие песцы, как правило, жмутся друг к дружке, но при этом инстинктивно выставляют колючки — и, естественно, отскакивают, да холод опять сгоняет воедино… Но уж этот мне гимназический общий котел, пресловутый коллективный разум! Деликатнейше подтрунивавшему Антону Палычу, скажем, общий разум мерещился, представлялся какой-то студенистой массой, вроде холодца. Не хотел он туда вливаться, в их штербень…
Илья, покашляв, печально обратился к Ратмиру со строками Книги: «Не падайте духом, провождая время с жидами и маршируя в грязи, уповайте на будущее, и, если вам невероятно повезет, вы может быть, и выйдете в один прекрасный день из Леса и увидите впереди Длинное Чермное Болото».
— Хучь в раббины… — начал Ратмир, улыбаясь, но в этот момент вагон дернуло, заскрежетали колеса, электричка резко затормозила. Многие попадали со своих мест, но как-то равнодушно, без оторопи.
Народ, кряхтя и охая, принялся собирать разлетевшееся имущество, родное рванье, хмуро переговариваясь:
— Чего там — опять пути впереди разобрали?
— Шпалы на идолов, рельсы на Царь-ботало…
— Да нет, судари, это банда Василисы…
— A-а, лесные Воительницы пошаливают, весталки-встаньки…
— Снегини, тудыть им клубень!
Илья осторожно выглянул. Вдоль вагонов на низкорослых мохнатых горбунках скакали крепкие ядреные девки-православки в ватниках, с боевыми рогатинами. Вздымали горбунков на дыбы, свистели люто. И среди них, отдавая приказанья, ехала предводительница — русоволосая, русскоглазая Василиса-краса. Илья машинально облизнулся.
Через малое время двери тамбура слетели с петель, и в вагон лихо ворвались снежные весталки — румяные, разгоряченные, пахнущие хвойной свежестью и нежным потом. За ними, свиристелками, неспешно и строго вошла Василиса — в какой-то невиданной, в морозной пыли, роскошной шубе, а уж рогатина у завуча была серебристая, с блестками. Оглядела притихших людишек, нахмурила пушистые брови и вдруг улыбнулась, глаза протаяли:
— Ну, конечно, зима священна, десятый «в», и, как всегда, в полном составе!
— Здра-а-асте, Василиса Игоревна!
— И обновка у вас, я гляжу и вижу — новый Учитель? Вечер-темец, Илья Борисович!
Пока Илья решал, повалиться ли в ноги или достаточно отвесить поклон, слегка подпрыгивая и помахивая перед собой малахаем, Василиса спросила:
— Как успехи, вэшки? Успеваете?
— Да-а-а, Василиса Игоревна!
— Как Учитель — не балуется?
— Не-ет, Василиса Игоревна…
— Похвально, душа моя, — обратилась она тогда к Илье, — что вы нашли контакт с нашими детьми. Вникли в массовую душу. Это, милейший, и редкостно, и радостно. Я же их вела когда-то, еще несмышленышей, начинала… Есть, значит, в вас что-то свыше! Вы пока спрячьтесь под лавку, чтобы не видеть происходящего, а как мы уйдем — вылезете.
Под лавкой оказалось тихо и уютно, как в темнице, глухо доносившиеся звуки можно было трактовать разнообразно, посещали дорожные мысли: «Я знаю теперь, что все люди в езде равны… и братья!», и Илья, лежа на боку и с интересом позевывая, уже было начал задремывать, убаюканный, когда раздались дикие прощальные посвисты и прогремело:
— Доброго снега вам, Илья Борисович! Опосля еще увидимся!
— Масса учитель, вы целы? — с беспокойством спросил Ратмир. — Вылезайте. Можно уже.
Выбравшись из-под лавки, Илья заметил, что простору в вагоне значительно приросло. Зияли очищенные места. Он тут же прильнул к окну. При свете луны увидел он, как Василиса, сидя бочком в седле, небрежно махнула рукавом кому-то на паровозе — пшел, кыш!
Получив отпущение, электричка задымила, запыхтела, медленно тронулась. Всадницы возвращались обратно в Лес, гоня перед собой небольшую колонну зачуханных, основательно отмутуженных мужичков со связанными за спиной руками, в каких-то бабьих тряпках, наверченных на голову.
— У нее огромная усадьба в посаде — такая микулишна! — объяснял Ратмир, тоже глядя в окно на Василису. — Надо же кому-то возделывать сей сад. Кайло в зубы, в обед — сухарь из кулича. Очень хваткая баба. Сущая грушенька — везде поспевает! Мешками на торг возит. Песцов откармливает. Вы, кстати, обратили внимание — вечно от нее паленой щетиной несет?..
— Ратмир, тут братки гипотезу выдвигают насчет одной каверзы… Давай вместе обмозгуем, — позвал Евпатий.
— Иду. Извините, Илья Борисович…
14Электричка набирала ход. Вокруг дремали, закусывали, усевшись калачиком, разложив на коленях тряпочку — лупили сваренные вкрутую клубни, посыпали крупной красной солью, разглагольствовали:
— У нас ведь как. Встань, кличу, русский богатырь-муромец, раззудись башка! А он мне: «Не подходите, не подходите: вы с холода!» Ну а бесам самый шабес!
— А надобно в Духов день вывести их за хвост на главную артерию (или лучше сказать — вену) нашего городища, да носом хорошенько потыкать в оскверненное — и пущай щетками трут обледенелый булыжник московский!
— А вот, чтоб копыто их раздвоенное не ступало на святую землицу, у нас на окраине народ давно средство придумал — ходули им, мерзлякам, осиновые! Диво нехитрое! Видишь, ковыляет на ходулях, возвышается, отрыгивает жвачку, колеблет свой треножник — ага, бей, не промахнешься!