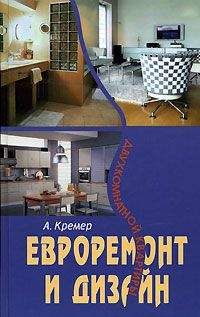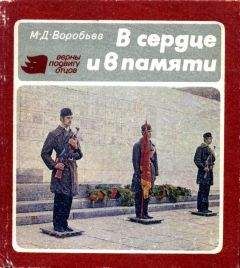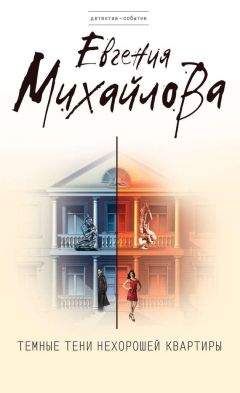Сильвио Пеллико - Пеллико С. Мои темницы. Штильгебауер Э. Пурпур. Ситон-Мерримен Г. В бархатных когтях
Если смягчили наказание всем подсудимым первого процесса, то не служит ли это доказательством того, что смерть должна пощадить подсудимых и второго процесса? Или такое снисхождение было оказано только первым, потому что они были арестованы до тех еще постановлений, которые были после обнародованы против тайных обществ, и вся строгость падет на вторых?
— До разрешения моих сомнений не может быть далеко, — говорил я. — Слава Богу, что у меня есть время предвидеть смерть и приготовиться к ней.
XLVIII
Моей единственной мыслью было — умереть по-христиански и с должным мужеством. Было у меня искушение избавиться от виселицы самоубийством, но это искушение исчезло. Какое преимущество в том, что я не дамся убить себя палачу, а буду сам своим палачом? Что! Я спасаю честь этим? И не ребячество ли думать, что больше чести подшутить над палачом, чем не делать этого, когда все равно неизбежно умереть? И не будь я христианином, самоубийство, если порассуждать о том, кажется мне глупою забавою, бесполезностью.
— Если пришел конец моей жизни, — говорил я себе, — то не счастлив ли я тем, что мне есть время собраться с мыслями и очистить свою совесть желаниями и раскаяниями, достойными человека? Рассуждая заурядно — идти на виселицу, это есть самая худшая из смертей, рассуждая мудро, не есть ли это лучшая из стольких смертей, которые приходят через болезни, болезни, ослабляющие разум, не допускающие душе оторваться от пошлых, низких мыслей?
Я так проникся справедливостью этого рассуждения, что страх смерти, и смерти такого рода, как виселица, совсем исчез у меня. Я много размышлял о Святых Дарах, которые должны были придать мне сил к этому торжественному шагу, и мне казалось, что я могу принять эти Дары с таким настроением, что они не замедлили бы оказать свое действие. Сохраню ли я эту высоту духа, которую я, как думал, имею, этот мир, это чувство снисхождения к тем, кто меня ненавидел, эту радость, что я могу свою жизнь принести в жертву воле Божией, сохраню ли я их, когда поведут меня на казнь? Увы! Человек полон противоречий, и когда тебе кажется, что ты стал более сильным, более безгрешным, через минуту после этого ты можешь впасть в слабость и прегрешение! Один Господь знает, умру ли я тогда достойно. Я еще не столь высокого мнения о себе, чтобы утверждать это.
Мое воображение между тем остановилось на мысли — вероятной близости смерти — таким образом, что умереть мне казалось не только возможным, но я даже предчувствовал, что я наверное умру. Всякая надежда на то, что я избегну этого определения судьбы, все больше и больше покидала меня, и при каждом звуке шагов и ключей, всякий раз, как растворяли мою дверь, я говорил себе: «Мужайся! Может быть, пришли за тобой, чтобы вести тебя к выслушиванию приговора. Выслушаем его с полным достоинства спокойствием и благословим Господа».
Я размышлял о том, что я должен был написать в последний раз своим родным и в отдельности отцу, матери, каждому из братьев и каждой из сестер, и, перебирая в своем уме выражения чувств, столь глубоких и столь священных, я умилялся и плакал, и эти слезы не ослабляли моего желания безропотно подчиниться Верховному промыслу.
Как было не вернуться бессоннице? Но какая была разница между этой бессонницей и прежней! Я не слышал ни стонов, ни смеха в комнате, не бредил ни духами, ни спрятавшимися людьми. Ночь была для меня желаннее дня, потому что ночью я больше сосредоточивался в молитве. К четырем часам я обыкновенно ложился в постель и спал мирным сном около двух часов. Проснувшись, я еще долго лежал в постели. Вставал к одиннадцати.
Однажды ночью лег я несколько раньше обыкновенного, не прошло еще четверти часа, как я заснул, — просыпаюсь, и мне бросается в глаза сильный свет на стене. Я испугался, что не впал ли я снова в прежний бред, но то, что я видел, не было иллюзией. Этот свет падал из выходившего на север окошечка, под которым я лежал.
Я соскакиваю на пол, беру столик, ставлю его на кровать, сверху кладу стул, взлезаю на него — и вижу одно из прекраснейших и ужаснейших огненных зрелищ, какое я только мог бы себе вообразить.
Был большой пожар на ружейный выстрел от наших тюрем. Началось с того здания, где были общественные пекарни, которое и сгорело дотла.
Ночь была чрезвычайно темная, и тем более выделялись эти огромные клубы пламени и дыма, подхватываемые порывистым ветром. Со всех сторон летели искры, и казалось, что с неба падал огненный дождь. Соседняя лагуна отражала пожар. Множество гондол сновало взад и вперед. Я представлял себе страх и опасность тех, кто жил в загоревшемся доме и в соседних с ним, и жалел несчастных. Я слышал далекие голоса мужчин и женщин, кричавших:
— Тоньина! Момоло! Беппо! Цанце!
И имя Цанце поразило мой слух! Хоть их и тысячи в Венеции, я, однако, боялся, не была ли это та, воспоминание о которой было так сладко для меня! Не она ли это там, несчастная? И, может быть, окружена пламенем? О, если бы я мог броситься освободить ее!
Замирая, дрожа, удивляясь, я простоял до зари у этого окна, потом слез, подавленный смертельною грустью, представляя себе гораздо больше потерь, чем это было. Тремерелло мне сказал, что сгорели только пекарни и смежные магазины с большим количеством кулей муки.
XLIX
В моем воображении еще живо сохранилось впечатление от виденного пожара, когда, несколько ночей спустя, — я еще не ложился в постель и занимался у столика, весь окоченев от холода, — раздались близкие голоса: были это голоса смотрителя, его жены, их детей и секондини:
— Пожар! Пожар! О, Пресвятая Дева! О, мы погибли!
Мне сразу перестало быть холодно, я вскочил на ноги, весь обливаясь потом, и озирался кругом, не видно ли уже где пламени. Но пламени не было видно.
Пожар был, впрочем, в самом палаццо, в присутственных комнатах.
Один из секондини кричал:
— Но, синьор, что же мы будем делать с запертыми-то в клетку, если огонь дальше пойдет?
Тюремный смотритель отвечал:
— Мне жаль оставить их зажариться. Но я не могу, однако, открыть камеры без разрешения комиссии. Скорее, говорю, бегите, просите это разрешение!
— Иду, бегу, синьор! Но ведь, знаете ли, ответ-то не придет вовремя.
И куда девалась та геройская преданность воле Божией при мысли о смерти, преданность, которою, как я был твердо уверен, я обладаю? Почему это мысль о том, что я сгорю живым, меня кинула в лихорадку? Как будто бы больше удовольствия быть повешенным, чем сгореть? Я подумал об этом и устыдился своего страха, только что хотел было закричать смотрителю, чтобы он меня выпустил из милости, но удержался. Тем не менее было страшно.
«Вот, — говорил я, — каково будет мое мужество, если я спасусь от огня, и меня поведут на смерть! Я удержусь, скрою от других свою трусость, но буду страшиться. Но… разве это не будет мужеством — действовать так, как будто не дрожишь от страха, а на самом деле боишься? Разве это не великодушие — принудить себя дать охотно то, что жаль дать? Разве это не повиновение — повиноваться против своего желания?»
Суматоха в помещении тюремного смотрителя была так сильна, что это показывало все увеличивающуюся опасность. А секондини, ушедший просить разрешения вывести нас отсюда, не возвращался! Наконец, показалось мне, что я слышу его голос. Я прислушался, но слов разобрать не мог. Жду, надеюсь, напрасно! Никто не идет. Возможно ли, что не разрешено перевести нас в безопасное от огня место? Или нам уже больше нет средств к спасению? Или, может, тюремный смотритель и его жена мечутся, чтобы спасти самих себя, и никто не думает о бедных, запертых в клетку?
«Да в конце концов, — снова думал я, — это не есть философия, это не есть религия! Не лучше ли я сделаю, если приготовлюсь к тому, чтобы увидеть пламя, входящее в мою комнату и готовое пожрать меня?»
Между тем шум утих. Мало-помалу не стало слышно ничего. Было ли это доказательством того, что пожар прекратился? Или все те, кто только мог, убежали и не осталось здесь больше никого, кроме жертв, обреченных на столь жестокую смерть?
Стоявшая тишина меня успокоила: я понял, что, должно быть, пожар потушили.
Я лег в постель и упрекал себя в трусости, и теперь, когда уже больше нечего было бояться, что я сгорю живым, я жалел о том, что не сгорел: лучше бы мне было сгореть, чем через несколько дней быть убитому людьми.
На следующее утро я узнал от Тремерелло, какой был пожар, и смеялся над тем страхом, какой был у Тремерелло, по его словам: как будто мой страх не равнялся его страху или не был больше его.
L
11 января 1822 года, около 9 часов утра, Тремерелло воспользовался случаем придти ко мне и, взволнованный, говорит:
— Знаете ли вы, что на острове Сан-Микеле ди Мурано, недалеко от Венеции, есть тюрьма, где находится, может быть, больше сотни карбонариев?