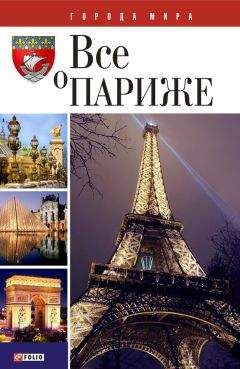Джонатан Франзен - Безгрешность
– А если я не стану, что тогда? – Мать слабо улыбнулась. – Опять уедешь?
– Тогда – сама не знаю что. Буду царапаться, за волосы тебя таскать.
В том, что мать это не позабавило, ничего нового не было.
– Я уже не так боюсь твоего ухода, – сказала она. – Мне долго казалось, что это будет смерти подобно. Но нет, это не смерть. С некоторых пор настоящая смерть для меня – это пытаться тебя удержать.
Пип вздохнула.
– Ты знаешь, если честно – я многое буду рада оставить в прошлом. То, что ты звала меня котенком, то, что я не могла закончить с тобой телефонный разговор. Я стала намного старше. Ты не поверишь, насколько старше. И что, ты не хочешь знать, какая я теперь? Я – все та же я и в то же время другая. Я что, тебя больше не интересую? Ты-то меня по-прежнему интересуешь.
Мать повернула голову и посмотрела на нее пустым взглядом.
– Какая ты теперь?
– Не знаю. У меня настоящий бойфренд – это одно. Мне кажется, я его люблю.
– Мило.
– Так, а теперь другое. Важное. Я знаю твое настоящее имя.
– Я в этом не сомневалась.
– Скажешь его мне сама?
– Нет. Ни за что.
– Ты должна его произнести. Ты все мне должна рассказать, потому что я твоя дочь и не могу находиться с тобой в одной комнате, если все, что мы делаем, – сплошная ложь.
Мать грациозно встала, гибкая благодаря медитативным упражнениям, но, вставая, задела головой полочку для шампуней, и один флакон полетел на пол. Она сердито бросилась вон из душевого отсека, споткнулась о Пип и выбежала из ванной.
– Мама! – Пип поспешила за ней.
– С этой частью тебя я не хочу иметь ничего общего.
– С какой частью?
Мать резко обернулась. Ее лицо было не лицо, а чистое страдание.
– Уходи! Уходи! Оставьте меня в покое, оба! Ради бога, умоляю, просто оставьте меня в покое!
Пип с ужасом увидела, как та, которая теперь, казалось, всецело была Анабел, рухнула на кровать, натянула на голову одеяло и с громким мучительным плачем принялась лежа раскачиваться взад-вперед. Пип не ждала, что будет легко, но это было чересчур по любым меркам. Она отправилась на кухню и осушила стакан вина. Потом вернулась на веранду, подошла к кровати, отодвинула одеяло в сторону, легла позади матери и обняла ее. Она зарылась лицом в густые материнские волосы и ощутила ее запах, самый явственный из всех запахов, ни на что не похожий. Ткань серовато-коричневого платья была мягкая от сотни стирок. Мало-помалу плач утихал, сменяясь всхлипываниями. Дождь стучал по крыше веранды.
– Извини, – сказала Пип. – Извини, но я не могу просто взять и уйти. Я знаю, что тебе трудно, но ты меня родила, и тебе придется теперь иметь со мной дело. Это моя цель. Я твоя реальность.
Мать молчала.
Оба?
Пип понизила голос до шепота.
– Ты все еще его любишь?
Она почувствовала, как мать напряглась.
– Мне кажется, он по-прежнему тебя любит.
Мать судорожно втянула воздух и не выдыхала.
– Значит, должен найтись способ двигаться дальше, – сказала Пип. – Должен найтись способ простить и двигаться дальше. Без этого я не уеду.
Добиться того, чтобы мать рассказала свою историю, Пип сумела утром, дав ей понять, будто услышала от Тома его версию; она верно сообразила, что для матери это будет невыносимо. Подробности зачатия мать опустила – сказала только, что оно произошло в последнюю их встречу с Томом; но об остальном она говорила на удивление спокойно и внятно. Пип родилась не 11 июля, а 24 февраля. Роды были естественные, без медикаментов, но с помощью акушерки, и прошли они в убежище для жертв насилия в Риверсайде, Калифорния. До двухлетнего возраста Пип жила с матерью в Бейкерсфилде, где мать работала уборщицей в гостинице. Но потом по чистому невезению (ведь Бейкерсфилд – место малопопулярное) она встретилась там с подругой по колледжу, которая стала задавать слишком много вопросов. Одна женщина, с которой мать познакомилась в убежище, знала про сдающийся домик в горах Санта-Круз, и она перебралась туда с Пип.
– В женских убежищах я массу всяких ужасов наслушалась, – сказала ей мать. – Столько женщин, которых бьют смертным боем. Столько историй про мужчин, которые понимают любовь так, что надо выследить бывшую жену и пырнуть ножом. Мне, наверно, следовало чувствовать себя виноватой, что я выдаю себя за жертву насилия, но я не чувствовала. Мужская эмоциональная жестокость может быть ничуть не менее болезненной, чем физическая. Мой отец был жестокий человек, но муж его превзошел.
– Серьезно? – спросила Пип.
– Да, серьезно. Я сказала ему, что, если он когда-нибудь возьмет деньги у моего отца, это убьет меня, и он их взял. Взял специально, чтобы причинить мне боль. Он переспал с моей лучшей подругой, чтобы причинить мне боль. Я давала ему советы, я поддерживала его морально, и он всем этим пользовался, чтобы сделать карьеру, а потом, когда я боролась за свою карьеру, он меня бросил. Молодость дается только раз, и я отдала ему свою молодость, потому что поверила его обещаниям, а потом, когда я уже не была молода, он их нарушил. И я знала это с самого начала. Я знала, что он меня предаст. Я с самого начала ему об этом говорила, но он все равно давал мне обещания, а я по слабости им верила. Я ничем на самом деле не отличалась от других женщин в убежищах.
Пип с прокурорским видом скрестила руки.
– И ты решила, что родить от него ребенка и ничего ему не сказать – это нормально. Что ты имеешь на это моральное право.
– Он знал, что я хотела ребенка.
– Но почему от него? Почему не от какого-нибудь случайного донора спермы?
– Потому что я свои обещания выполняю. Я обещала ему, что буду принадлежать ему всю жизнь. Он свои может нарушать, его дело, но я не такая. Нам было суждено иметь ребенка, и я его родила. А потом, сразу же, ты стала для меня всем. Ты должна мне поверить: меня перестало волновать, кто твой отец.
– Не верю. Ты продолжала с ним морально соревноваться. Кто лучше выполняет обещания.
– В наших отношениях под конец стало столько жестокости, столько грязи… Я хотела, чтобы из них возникло что-то безгрешно чистое. И оно возникло. Ты.
– Я далека от безгрешной чистоты.
– Никто не идеал. Но для меня ты была идеалом.
Момент показался Пип подходящим, чтобы, демонстрируя свою неидеальность, затронуть денежную тему. Она рассказала о своей поездке в Уичито и постаралась внушить матери, что она не должна отказываться от контакта с мистером Наварром. В том, как мать в ответ качала головой, было больше смятения, чем решительного отказа.
– Что я стала бы делать с миллиардом долларов? – спросила она.
– Для начала ты могла бы попросить Сонни откачать септик. Ночью я лежала и думала, сколько там накопилось. Его когда-нибудь откачивали?