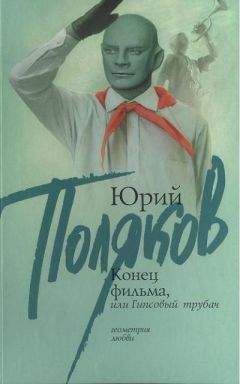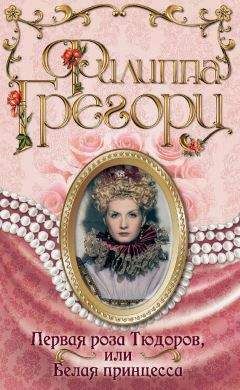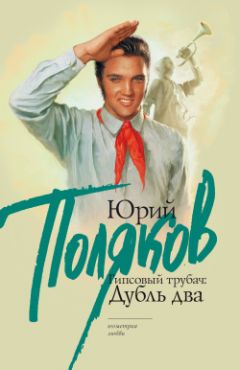Юрий Поляков - Гипсовый трубач
— А как же гипсовый трубач?..
— На хрена, скажите, в этой ситуации нужен ваш гипсовый трубач? Вот и получается: ни трубача, ни катарсиса! Нет, чего-то не хватает. Какого-то взрыва…
— Может, Ксения?
— Кто?
— Жена Бориса.
— Ксения? Допустим, она алкоголичка, давно лишенная мужниной ласки. Обычная история в богатых домах. Ну и что?
— Она узнает про свидание в шале, врывается и…
— Откуда узнает?
— Ей сказал кто-то из охранников…
— Значит, она спит с охранником. Неплохо, а главное — типично. Так ей и надо! Вы хотите, чтобы она ворвалась и отлупила Борю зонтиком, как моя жена?
— А что, Маргарита Ефимовна била вас зонтиком? — оживился Кокотов.
— Била. Как-нибудь расскажу. А может, вы хотите, чтобы Ксюша присоединилась к ним третьей? Экий же вы, однако, Вуди Аллен!
— Ничего я не хочу. Это вы от меня все время чего-то хотите! Вы мозгоед!
— Вот видите, даже новое слово придумали. Это хорошо. Вас нужно чаще сердить — тогда с вами можно работать.
— Мне надо идти! — нервно объявил писодей, вскакивая со стула.
— А в чем дело?
— Ни в чем. Мне надо!
— Хорошо, идите! Зачем мне такой соавтор? Прощайте навсегда!
— Прощайте! — Андрей Львович метнулся к выходу. — Я вам не раб!
— Не раб — а следовательно, плохой писатель!
— С чего это вы взяли? — замедлил бегство автор «Кандалов счастья».
— Хороший писатель — раб замысла, как верно заметил Сен-Жон Перс. А вы раб своих гормонов. Вот вы кто! Кстати, дверь я запер.
— Когда?
— Когда вы мочили полотенце и звонили Лапузиной.
— Зачем? — вопросительно застонал Андрей Львович, дергая ручку.
— Затем, что вы неблагодарный! Я прислал вам свою лучшую женщину, думал: успокоитесь, вернетесь в творчество. Я ошибся! Что вы суетитесь, как обнадеженный девственник?! Думаете, не вижу? Вижу! Дурашка…
— Я не дурашка!
— Ладно, не дурашка. Вернитесь и заодно захватите пивка!
Кокотов, понимая, что гибнет, в ярости распахнул холодильник, схватил две «Крушовицы» за горлышко и пошел на Жарынина, как последний боец на немецкий танк. Режиссер ждал его с обнаженным клинком.
— Пейте, пейте, пейте!
— Спасибо, мой друг, — игровод сорвал пробку и, счастливо всхлипнув, запрокинул бутылку.
А несчастный писатель вдруг почувствовал почти непреодолимое желание выхватить из руки тирана кинжал и воткнуть в отвратительно мечущийся под бурой щетинистой кожей кадык. Желание зарезать режиссера было настолько повелительным, что он левой рукой придержал преступно шевельнувшуюся правую. Писодей живо вообразил, как, нанеся удар, будет потом долго сидеть рядом с алебастровым трупом, распростертым на кровавых простынях. Через какое-то время, не дождавшись соавторов на ужин, зайдет с подносом Регина… Нет, лучше Валентина Никифоровна. Увидев труп с кинжалом в горле, она дико закричит, обрушит поднос с тарелками и убежит звать на помощь. Примчится ошарашенный Огуревич, станут потихоньку заглядывать в номер самые смелые и любопытные старички. Не дождавшись у дальней беседки, придет и Наталья Павловна. Через головы перешептывающихся ветеранов она будет смотреть на Кокотова огромными, потрясенными глазами, полными восхищенного отчаянья. Наконец приедет наряд. Милиционер, похожий на опера с «Улиц разбитых фонарей», спросит:
— Ваша работа?
— Моя.
— Фамилия?
— Свиблов.
— Не лгите.
— Кокотов.
— Это другое дело. Будем явку с повинной оформлять?
— Если можно…
— Конечно можно. Мотив?
— Личная неприязнь.
— Конкретнее!
— Он назвал меня «дурашкой».
— Не верю. Вы не дурашка, вы убийца! Скажите лучше правду!
— Он не пускал меня на свидание к любимой женщине!
— А вот теперь верю! — кивнет опер, с интересом глянув на Наталью Павловну, все еще стоящую у дверного косяка. — Вы бы шли домой, гражданочка!
— Я найму лучших адвокатов! — крикнет она, теснимая участковым. — Я буду ждать!
— О чем вы опять задумались?
— Об убийстве… — сознался автор «Роковой взаимности».
— О каком еще убийстве? — не понял режиссер.
— Обыкновенном…
— Так-так-так, — Жарынин, снова приоживший после пива, забарабанил пальцами по тумбочке. — Убийство. А что — неплохо! Включаем мыслеройные машины и двигаемся в этом направлении. Кого-то должны убить. Это хорошо. Это правильно. Но кого? Юлию жалко. Костю не жалко, но зачем? Варя молодая еще. Детей в кино вообще убивать нельзя. Ксения и так скоро умрет от пьянства. Остается — Борис. Кто и за что его убивает? Думайте!
— Знаете, Дмитрий Антонович, у меня есть одна идея. Я готов ее вам изложить завтра утром. Могу письменно, — веско произнес Кокотов, ощущая в голове сосущую пустоту, какая обычно бывает в голодном желудке.
— Почему же не сейчас?
— Мысль должна дозреть. И если вы дадите мне сегодняшний вечер на размышления…
— Не дам! — Игровод посмотрел на соавтора с иронией строгого родителя, ведающего все простодушные хитрости своего младенца. — Что вы мне врете, как депутат избирателю? Думайте! Немедленно! Вслух. Ну!
— Но это еще очень сыро… — соврал, борясь за свое счастье, писодей и снова незаметно посмотрел на часы: было уже почти шесть.
— Ничего, что сыро. Валяйте!
«Господи, — подумал раздавленный Андрей Львович. — За что, за что мне все это? Чем страдать с этим пьяным самодуром, лучше сочинять вместо Рунина чепуху про мозг Иллариона! И сюжет беременная студентка, верно, неплохой придумала… Стоп, Андрюша, стоп! — Сам к себе, да еще с особенной маминой интонацией, он обращался редко, только в минуты страшного волнения или вынужденного мужества. — Тихо! Только не спугни, Андрю-юша!..»
И тут случилось чудо: из этого мысленного вопля, точнее сказать, «мыслевопля», мгновенно, точно яркий бумажный букет из сухонького кулачка фокусника, выскочила вся история убийства Бориса до последних мелочей. Казалось, Кокотов ее вынашивал не один день.
— Видите ли, Дмитрий Антонович, — начал писодей, стараясь придать голосу эпическое спокойствие. — Если наш Борис — олигарх, значит, у него есть враги. Isn’t it? — от страшного напряжения он перешел на английский, которого почти не знал.
— Of course! — подтвердил игровод. — Недаром Сен-Жон Перс говаривал: богатство — главная улика! Ну и что с того?
— Бориса хотят убить.
— За что?
— Не важно.
— Кто?
— И это не важно! — Кокотов почувствовал себя Жарыниным. — Хотят — и все тут!
— Верно. Богатство — вызов нравственности! Ведь есть же, согласитесь, какой-то предел обогащения? Скажем, десять миллионов евро.